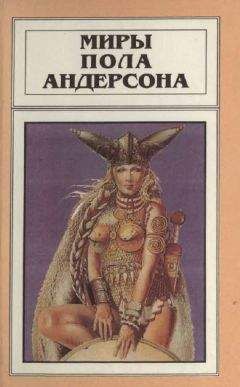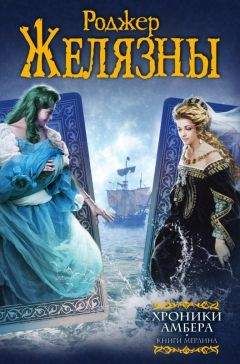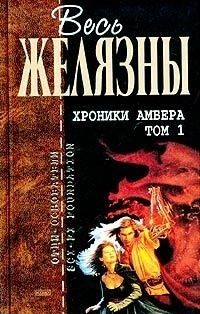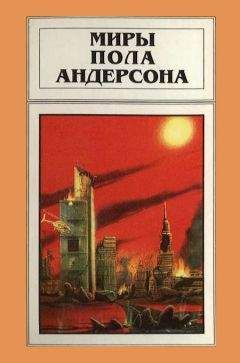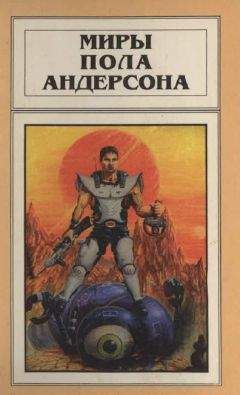Александр Бестужев-Марлинский - Статьи
Вы правы, что для Руси невозможны еще гении: она не выдержит их; вот вам вместе и разгадка моего успеха. Сознаюсь, что я считаю себя выше Загоскина и Булга-рина; но и эта высь по плечу ребенку. Чувствую, что я не недостоин достоинства человека со всеми моими слабостями, но знаю себе цену и, как писатель, знаю и свет, который ценит меня. Сегодня в моде Подолинский, завтра Марлинский, послезавтра какой-нибудь Небылинский, и вот почему меня мало радует ходячесть моя. Не випите крепко меня за Бальзака: я человек, который иногда может заслушаться сказкой, плениться игрушкой, точно так же, как сказать или сделать дурачество. Вот почему и Бальзак увлек меня своей "Шагреневого кожей". Там есть сильные вещи, есть мысли, если не чувства глубокие. Выдумка стара, но форма ее у Бальзака яркая, чудная, и потом он мастер выражаться. Зато в повестях его я, признаюсь, нашел только один силуэт ростовщика, резким перстом наброшенный. В Нодье я сроду ничего не находил и не постигаю дешевизны похвал французской публики: она со всяким краснописцем носится будто с писаною торбой. Перед Гюго я ниц... это уже не дар, а гений во весь рост. Да, Гюго на плечах своих выносит в гору всю французскую словесность и топчет в грязь все остальное и всех нас, писак. Но Гюго виден только в "Notre-Dame" ["Собор Парижской богоматери" (Фр.)] (говоря о романах). Его "Han d'Islande" ["Ган Исландец" (фр.)] - смелая, но неудачная попытка ввести бойню в будуары. "Бюг-Жаргаль" - золотая посредственность. И заметьте, что Гюго любит повторять свои лица и свои основные идеи везде. Ган, Оби, Квазимодо - уроды в нравственном и физическом родах... потом саможертвование в "Бюге", в "Гернани", в "Марион де Лорм"... Это правда, что он, как по лестнице, идет выше и выше по этим характерам; но Шекспир, человек более гениальный, этого не делал, а нам, менее даровитым, на это нельзя и покуситься. Надобна адская роскошь Байрона в приправах, чтобы разнообразить вырванное из человека сердце, которым кормит он читателя. "Кромвель" холоден и растянут: из него можно вырезывать куски, как из арбуза, но целиком - нет. Мариона прелестна: это Гец для времени Ришелье. Полагаю, что "Борджия" достойна своей славы, и жажду прочесть ее. Кстати, "Последний день осужденного" - ужасная прелесть!.. Это вдохнуто темницей, писано слезами, печатано гильотиной... Пускай жмутся крашеные губы и табачные носы, читая эту книгу... пускай подсмеиваются над нею кромешные журналисты - им больно даже и слышать об этом, каково же выносить это!.. О, Дантов ад - гостиная перед ужасом судилищ и темниц, и как хладнокровно населяем мы те и другие! Как счастлива Россия, что у ней нет причин к подобной книге!
"Клятву" перечитываю для последнего тома, только что полученного; кончив, скажу свое мнение, - не приговор, ибо человеку не по чину произносить приговоры. До тех пор скажу лишь, что я в ней находил "Русь", что я здоровался с земляками, и не раз пробивала меня слеза.
Вы пишете, что плакали, описывая Куликово побоище. Я берегу, как святыню, кольцо, выкопанное из земли, утучненной сею битвой. Оно везде со мной; мне подарил его С. Нечаев. О своем романе ни слова. Враждебные обстоятельства мешают мне жить, не только писать.
Не дивитесь, что я знаю морскую технику: я моряк в молодости и с младенчества. Море было моя страсть, корабль пристрастие, и хотя я не служил во флоте, но, конечно, не поддамся лихому моряку, даже в мелочах кораблестроения. Было время, что я жаждал флотской службы и со всем тем предпочел коня кораблю: с первого скорее соскочишь. Воспитание мое было очень поэтическое. Отец хотел сделать из меня художника и артиллериста. Я вырос между алебастровыми богами и героями, а потом между химическими аппаратами и моделями горного .корпуса. Лето скитался я по Балтике с старшим братом. Судьба сделала из меня кавалериста и, не знаю, призвание ли - сочинителя. Но это требует рам пошире: где-нибудь я опишу мое ребячество и мою бурную юность. Но где довольно черной краски, чтоб описать настоящее? Тот, который ни одной строчкой своею не красил порока, который сердцем служил всегда добродетели, подозреваем, благодаря личностям, бог весть в чем. Но об этом после. Лист кончен, но мое vale [Будь здоров (лат.)] стоит в начале разговора. Будьте счастливы и дома, и в свете, и в трудах своих, до скорого свидания мечтой. Ваш, весь ваш
Александр Бестужев.
17. К. А. ПОЛЕВОМУ
<Дагестан, 9 поября 1833.>
Обнимите за меня Николая Алексеевича, любезный Ксенофонт, обнимите крепко, крепко: это за его "Живописца"! Да, я, как женщина, безотчетно говорю: прелесть, но я отчетно чувствую эту прелесть. Какой я без-душник был, когда сказал, что слог был виной неуспеха "Клятвы", слог! Нет, черствые души читателей... Но все-таки я изумляюсь: язык в "Клятве" и язык в "Блаженстве безумия", особенно в "Живописце", две разные вещи, это писал другой человек; зачем же не всегда он пишет таким слогом, зачем? И я, я это спрашиваю! Я, который двух часов не бывал ровен! Я плакал, я заставил рыдать, когда читал эту повесть... я ужаснулся сам, когда прочел другому (?). Да, я чувствую, что я мог натурально выразить Аркадия, особенно ревность его; я глубоко бывал растерзан ею и не раз, а этот Прометей!.. О! знаете ли, что сегодня ночью (это не сказка) я видел во сне над собой этого огромного орла: он пахал холодом с широких крыльев в сердце мое; я хотел бежать и не мог... и потом я видел землю великанов, бродил между ними, с опасением, но без страха; они говорили со мной, но я не понимал их языка... Кровь моя была взволнована чтением; да, я чувствую, что автор такой повести может быть утешен, внушив человеку мыслящему столько мыслей, столько ощущений! Не завидую, ей-богу, не завидую Николаю; но досада есть на себя. Впрочем, могу ли я писать вполне, оглядываясь на все стороны? Я уже одичал, я уже не сумею ладить с цензурою, торговаться с нею!
Мысли мои кипят; не могу писать складно; в голове нет autoclave [Автоклава (фр.)]. Притом я взбешен на....., он грабит меня с А-вым пополам, вопреки 20-ти писем отдает тому деньги, а тот берет и даже писать не хочет. Как невообразимо гадки люди, за горсть гривенников они продадут и честь и совесть... Не поверите, как мне прискорбно видеть в людях такие низости; я бываю надолго убит разочарованием, и не эгоизм, не вред себе огорчает меня, но черты грязи на сыне небес.
Прилагаю мой ответ на выходку Смирдина. Мерзавец! Как смел он играть мною? Или думал, не известя меня даже о своем издании, купить мое слово или мое молчание деньгами! Деньгами? Когда я за двусмысленность не купил бы даже и свободы, первого, единственного блага и желания души моей...
Я физически не болен, но душой и не вылечивался, свидетель тому моя критика; досадно, что послал ее, лишнего много, нужного мало... Вижу; но пусть все-таки в ней почитают человека, если не вскрышку искусства. Будь что будет. Я опять к вам с канюченьем, прошу, исполните эти вздорные поручения. Посылаю 100 р. Не извиняюсь, зная вас. До следующей почты.
Ваш душой
Алекс. Бестужев.
К этому письму принадлежит следующий протест, писанный рукою Бестужева:
Милостивый государь,
С изумлением начитал я в 1-м номере "Сев. пчелы", в исчислении г.г. сотрудников вновь издаваться имеющего г. Смирдиным журнала "Библиотека для чтения", мое имя. Хотя я считаю себя не более как червячком в печатном мире, но все-таки не хочу, чтобы меня вздевали г-да спекуляторы на уду для приманки подписчиков, без моего спроса и согласия. А потому покорнейше прошу вас припечатать в "Телеграфе" известие, что я не только не буду, но и не хочу быть сотрудником г-на Смирдина; что в журнале, им издаваемом, ни теперь, ни впредь не будет моей ни строчки; что не только из сочинений моих, но из моего имени даже не продавал и не обещал я ему ни буквы. О поступке же г-на Смирдина, нарушающем не только личность, но и собственность писателя, предоставляю судить всей добросовестной публике. О tempora, о mores! [О времена, о нравы! (лат.)]
С уважением, и проч.
Александр Марлинский.
9 ноября 1833 г. Дагестан
18. К. А. ПОЛЕВОМУ
23 ноября 1833. Дербент.
Дорогой мой Ксенофонт Алексеевич. Сегодня я именинник и сижу один, больной, грустный. Мечты моего детства машут около меня крыльями, но я их вижу сквозь креп. Боже мой, куда делись и зачем не могут воротиться хотя немногие часы из минувшего? Зачем, хоть для образчика, не оребячится вновь сердце, чтобы я мог иметь органы для прежней радости, органы давно огрубелые или вовсе утраченные. Воспоминание! Что такое воспоминание? Живая картина, но все картина, а не действительность, картина, у которой время кривит перспективу и уносит у нас из-под ног точку зрения. Мысль простирает между было и есть железный аршин свой и говорит: это мое, это твое. Досадный раздел!.. Мысль принадлежит миру, чувство - мне. Мысль - брат, чувство - любовница... Чувство сладостнее, горячее, нежнее мысли. Но провидение спаяло обе половины времени, сроднило оба эти существа, слило воедино жизнь и смерть; и эта связка, эта амальгама, это бытие-гермафродит - Сон. Там только солнце юности не только светит, но и греет; там только цветы любви прежней не только блистают, но и благоухают. В нем, как в котле Медеи, младенеет и сердце и дух наш. В нем, как в зеркале шекспировских ведьм, видим мы туманные облики будущего; им переживаем порой то, чего не было и не будет, даже то, чего не могло быть и не может статься. Но, о добрый друг мой, - бледнеют и самые сны, вянет солнце, тускнет небо грез моих... Кажется, огромные буквы неизмеримой книги этой стираются; смысл чаще и чаще убегает от понятия, образы сливаются с туманом; ощущения поражают как тупые стрелы, не как меч раскаленный... Скажите, отчего это? Неужели кровь моя стынет? Зачем же кипит еще мое сердце? Зачем сны наяву волнуют его, а оно не оживляет моих сновидений по-прежнему? Да, в эту ночь я видел себя ребенком, видел отца моего, доброго, благородного, умного отца; видел, будто мы ждем его к обеду от графа Александра Сергеевича Строганова, который бывал именинник в один день с нами... И все заботы хозяйства, раскладка вареньев на блюдечки, раскупорка бочонка с виноградом, и стол, блестящий снегом скатерти, льдом хрусталя, и миндальный пирог с сахарным амуром посредине, и себя в новой курточке, расхаживающего между огромными подсвечниками, в которые ввертывают восковые свечи, - и все это виделось мне точь-в-точь как бывало. Но кругом было сумрачно, внутри меня холодно; я был уже зритель, не действователь на этом празднике. Я проснулся с досадою... И так луч мороза судьбы проникает даже в воображение, даже в сон - горькое открытие, горькое сознание!