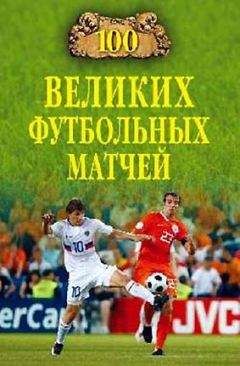Дэвид Макфадьен - Русские понты: бесхитростные и бессовестные
Оттого «террор» постигается как смесь восторженного, «нерушимого доверия в народе» (т. е. во всем вокруг) и безобразного, если не беспощадного следования тем же принципам несмотря ни на что.[198] Такое полное доверие несмотря ни на что — третий фактор философской революции. Как в «Эйфории» например. Включаем внутренний компас, и полный вперед: принимаем абсолютно всё — всю ситуацию и все вытекающие из нее события, — так что впредь никаких партий или предпочтений быть не может. К такому акту нас побуждают бескрайние просторы российского ландшафта, по мнению Лотмана; они символизируют конец всех партий, категорий, карт, правил, дорог и — поэтому — отсутствие линейного мышления. Нас подсознательно вдохновляют шири, расположенные вдали от «стабильности», которую олицетворяет любая столица. Мысленно мы идем дальше провинции. ТУда, где стираются все грани, все фракции, все разделения, где остается истина — полная, неописуемая, безымянная картина всего.
Философ Ален Бадью считает, что такие революционные истины создаются через четыре сферы: ЛЮБОВЬ, ПОЛИТИКУ, НАУКУ и ИСКУССТВО. В этих же сферах можно, как ни удивительно, пользуясь блестящим поражением Союза превратить понт в правду! Дискредитировавшие себя революции можно переиграть: лично, молча и страстно, а «переделать Ленина», как пишет культуролог Славой Жижек, — значит сделать в личном плане то, чего Ленин не сделал в общественном, и так реализовать упущенные шансы. Таков вызов времени после 1991 года. Понт его видит и боится его. Но своими поражениями в любви, в политической деятельности, в экспериментах на работе и в творчестве он приближает шансы на успех! Любить, работать, посвящать себя делу и творить надо так, чтобы делать все это в состоянии любви, труда, веры и творчества. Чтобы само понятие «цели» видоизменилось, и любая достигнутая цель (или поражение!) лишь открывала новые возможности и лучшие шансы — и другие, более отдаленные и поэтому истинные горизонты. Горизонты настоящего потенциала ситуации. Так, со временем — и только так — понтовые обещания останутся в прошлом, и мы будем в любви, в деле и т. д. В состоянии вечных, всегда многообещающих перемен. В настоящей игре. Русской.
Как музыка нам помогает в четырех категориях рискаЕсть один лишь путь к революционному перевоплощению всего и навечно — испытать себя в абсолютно (и вечно) неизвестной обстановке![199] Одним словом, надо идти на большой риск. Если удастся, и каждое поражение будет обнаруживать другие, пока не реализованные шансы, то рано или поздно откроется океаническое чувство или ощущение безбрежных просторов (эмоциональный их эквивалент), независимо от того, предпочитаем ли мы «сухую» или «мокрую» метафору! Такая вера в многообещающий потенциал радикальных перемен способна сильно повлиять на человека. Как поет в одной песне Олег Митяев про своего отца: «Верил Сталину, верил Хрущеву, верил, верил… работал… И пил». Ведь под мухой (или еще «дальше») вера в успех или лучшие времена остается, и надежда покидает нас в последнюю очередь. Истина в вине, но, к сожалению, не всегда надолго.
В России абсолютный, нетленный потенциал чего угодно — любви, политики, науки и искусства — толкуется через масштаб «вечно начинающейся, но никогда не заканчивающейся» географии. «Возможность» толкуется через «вечное отрицание» природы и через экологические циклы с неизбежной зимой, т. е. отрицанием или поражением. Этот парадокс проявляется в одном из центральных положений марксистской диалектики о развитии как переходе количественных изменений в качественные. Но полная, истинная революция — вопреки Марксу и соображениям здравого смысла — не прекращается: это же не один шаг от прежнего количественного состояния к новому качественному… и стоп! Надо отрицать предыдущее отрицание и т. д. Из-под ног уходит почва, а преданный идее «террорист» все-таки продолжает верить.
Можно обнаружить чисто «домашние» примеры этой природной веры еще до появления славянской письменности. Интересно к тому же наблюдать, как она сильнее всего выражается через музыку. Для желающих прояснить такие культурные импульсы или процессы мифотворчества есть архивные материалы, позволяющие показать роль музыки как саундтрека к русскому океаническому чувству. Вот как, например, думали русские историки в середине XIX века о своей эмоциональной природе: «Предания византийских историков [о любви к музыке среди прибалтийских славян] могут подтверждать только то, что все славяне любили музыку и увеселения, ибо из истории известно, что они в виду многочисленных врагов веселились, пели и забывали опасности. Однажды греки, напав на стан славян, разбили их единственно потому, что, будучи отвлечены песнями, они не приняли никаких предосторожностей».[200] Под воздействием музыки, песен и плясок — своего революционного искусства — русские были, словно «не дома» или «вне себя». Перед лицом приближающейся атаки они были лишены чувства «центра», т. е. всякого ощущения угрозы собственному телу.
Если говорить о подобных подтверждениях из недавнего прошлого, то понятно, почему блюз, к примеру, переживал пик популярности именно в лихие 1990-е. Никто тогда не пытался понять смысл английских слов: просто музыка — за пределами грамматической логики — создавала чувство единения. Музыка же всегда обволакивает нас, таким образом «усиливая ощущение общности».[201] Так, как в кино, например, сентиментальные мелодии объединяют всех (друг с другом незнакомых) зрителей. Музыка, действующая за пределами языка, людей соединяет.
Именно это впечатление общественного потенциала или децентрализованного «слияния» строится чередованием (присутствующих) звуков и их отсутствия. Синкопирование — неожиданное появление пустот — интуитивно ассоциируется мозгом с воображаемой «атакой» или по крайней мере с сюрпризом; так происходит в искусстве, как в нашем примере нарративных «ритмов» в предсказуемых мелодрамах или даже в акцентированном ритме громко произнесенного, всеми любимого мата. Куда восходят истоки этого музыкального ритма, при помощи которого мы исследуем уровни риска и шансы на общественный успех в окружающей нас среде? Манипулируя звуками на фоне окружающего, бессмысленного молчания или пустоты, мы рисуем — почти как летучая мышь! — звуковую карту безопасного пространства; устанавливаем степени безопасного расстояния от себя. Через музыку мы и управляем пространством, и постепенно отдаемся его власти. И власти своих эмоций. Принимаем вызов наших четырех категорий истины. Вот почему в кино музыка саундтрека сопровождает самые эмоционально насыщенные революционные сцены любви, труда, творчества и преданности рискованному делу.
По сходной логике нейрофизиологи утверждают, что наши музыкальные вкусы в основном определяются продолжением или расширением ощущений из доязыкового, детского прошлого. И мы, как зеленый крокодил или Лошарик, «отдаемся музыке: доверяем композиторам и музыкантам часть души и сердца, позволяем музыке перенести нас куда-то. Оказываемся “вне себя”. Многие из нас чувствуют, что великая музыка соединяет слушателей с чем-то большим, чем мы сами или наше существование. С другими людьми или с Богом. Понятное дело поэтому, что некоторые опасаются ослаблять бдительность; ведь мы позволяем музыкантам контролировать наши эмоции и даже наши убеждения: позволяем музыкантам поднимать нас, опускать, успокаивать и вдохновлять».[202] В океане чувств.
Так пишет Дэниел Левитин, самый известный нейрофизиолог Канады. Музыка обладает потенциалом освобождения постсоветского, уже не матерящегося и притихшего понтярщика и вселения в него веры в трансформацию революционного порыва… в победу в любви, в отношениях вообще: в политике, на работе и в искусстве. Однако, как говорится, песня — это жизнь, а жизнь — далеко не песня. Надо рискнуть и действовать интуитивно. И неважно, получится сразу или нет. Даже хорошо будет, если нет!
Куда же нас ведет эта музыка? К мазохизму?Психологи, исследующие склонность к «провинциальному» бинарному восприятию окружающего пространства (неважно, какого размера), предлагают одну гипотезу в контексте русской этнотеории о желаемом увеличении собственного статуса в глазах окружающего мира. О понтах. Упоминается достаточно часто страшное слово «нарциссизм». Предполагается, что хорошее представление о себе зависит от двух вещей: от положительного отношения к группе, членом которой я давно являюсь (к «своим»), и отрицательного отношения к тем, кто составляют вторую группу — «где-то там».[203] За границей или в глубинке, например.
Согласно данной теории, сосуществование ощущения комфорта «у своих» и тревожности перед «другими где-то там» заметно в политике, отличающейся ксенофобией. Например, «Пушкинская речь» Достоевского иногда считается неуклюжей попыткой совместить личностные и общественные аспекты этнотеории. Мол, прославленное выступление писателя в 1880 году соединяет элементы лирики с народным гимном, и такую мешанину можно расценивать как чередование склонностей — то к «ассимиляции», то к «универсализму». Первое соображение подразумевает: «стану таким, как ты»; второе — более грандиозное, если не имперское («я — везде и от имени всех»). Известный американский психоаналитик Дэниел Ранкур-Лаферьер называет комбинацию этих воззрений «конфузливым нарциссизмом империи» — сочетанием напыщенности и подавленного, скрытого стыда, вызывающего эту напыщенность. Для него это фундамент понтов.