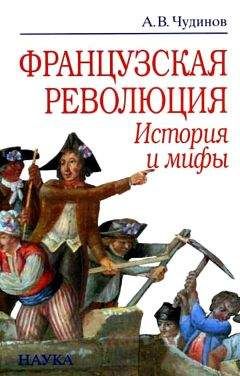Александр Гриценко - Антропология революции
Наконец, к этой же тенденции эротической антирелигиозной литературы примыкает и «L’Erotica Biblion» (1783) уже упомянутого нами Мирабо-сына, в котором доказывается, что в античные и библейские времена нравы были еще более развращенными, чем ныне, а Священное Писание и писания Отцов Церкви содержат не менее извращений и непотребств, чем современные романы. Впрочем, у Мирабо уже совершенно отчетливо проступает и другое: либертинаж для него — скорее игра, развлечение, которые он использует одновременно в политических целях: для подготовки неизбежной смены политического и государственного устройства. Если общество развращено — такова его логика, — то в этом вина правительства.
КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ ИЛИ ПРОЛОГ 1789 ГОДА?Собственно, именно к концу века, в последние десятилетия перед революцией, роман либертинажа приобретает свойственную его поздней модификации двойственность. Как это мы видели уже у Мирабо-сына в романе «Мое обращение», эротические и даже порнографические описания легко поддаются в нем реверсивной трактовке: не столько (и не только) игривые, соблазнительные сцены, сколько резкая критика и общества, да и самого либертинажа, скрывающаяся за мнимой игрой. Так, абсолютно амбивалентную роль играет либертинаж в известном романе Никола Ретифа де ла Бретона «Совращенный поселянин» (1775), где автор, казалось бы, с упоением описывая различные его формы (либертинаж ставшего светским человеком поселянина Эдмона; доведенный до пароксизма либертинаж Годе; разные формы женского либертинажа[284]), кажется, впервые во французской литературе «выходит на тему» классового содержания данного социального явления. Критикуя светский, аристократический либертинаж, сеющий зло и приводящий к гибели по природе своей благородных героев, Ретиф в целом выступает словно от имени тех, для кого либертинаж есть лишь вольность нравов, «сладострастная практика бездельников». На самом же деле, будучи учеником и последователем Жана-Жака Руссо (весьма непоследовательным, надо сказать; впрочем, стоит помнить, что современники дали Ретифу прозвище «Rousseau du ruisseau» — «ручейный Руссо»), Ретиф отвергает не столько практику либертинажа, которая эстетически его явно притягивала, сколько его философские основания, ассимилируя тем самым материалистическую теорию и либертинаж[285].
Подобная же двойственность, за которой просматривалось в том числе и социальное происхождение автора, характеризует и другой роман, написанный почти десятилетие спустя и известный под названием «Любовные приключения кавалера Фобласа» (1797) Жана-Батиста Луве де Кувре. Правда, в отличие от романа Ретифа де ла Бретона, это была своего рода современная утопия, в которой словно ностальгически сублимировались «идеальные черты» уже уходящей эпохи[286] (и тем самым то, что она завершалась, делалось очевидным). В данном случае примечательно еще и то, что роман, ставший своего рода символом dolce vita Старого режима, так что Фоблас последующими поколениями воспринимался как «типичный француз аристократического XVIII века», «последний из либертенов»[287], вышел из-под пера сына парижского торговца Луве. Писатель, добавив себе благородную частицу «де», свои знания об аристократических нравах эпохи почерпнул более из книг, чем из жизни (в круг источников его романа входили среди прочего романы Кребийона-сына, Лакло, но также Руссо и Вольтера[288]). При этом мир, в котором жили герои Луве де Кувре, казался стабильным: по-прежнему радостно служили своим господам слуги, и по-прежнему тем же господам, но по-своему, служили субретки. И казалось, что ничто не предвещает скорых и неминуемых потрясений.
И все же, как уже не раз замечала критика, это было изображение аристократического мира, но увиденного руссоистски настроенным бюргером[289], который, как он сам в том признавался, старался наполнять (или разбавлять) легкомысленные сцены серьезными пассажами, где «показывал большую любовь к философии, и особенно к республиканским принципам, достаточно редким для эпохи, в которую… писал»[290]. Первое, как мы уже видели, было не новым, но от уважения к «республиканским принципам», действительно, веяло новизной. Оно находило выражение и в истории патриота Ловзинского, страдания и испытания которого представляли собой своего рода контрапункт легкомысленной жизни заглавного героя, и в подозрении, высказанном любовником умной и сладострастной интриганки маркизы де Б., что, «если бы она родилась простой бюргершей, то вместо того чтобы быть галантной женщиной, она была бы попросту женщиной чувствительной»[291], а также в тирадах против порабощения женщины, за свободный выбор и развод.
В еще более острой форме критика общественной жизни и общественных отношений, скрываемая за эротическими описаниями порой уж совсем обсценного свойства, получила отражение в своеобразном жанре, имевшем весьма широкое хождение в предреволюционные годы (его обычно относят к совсем уж третьесортной литературе либертинажа). Я имею в виду так называемые мемуары куртизанок (вариант: публичных женщин — а проституция действительно увеличилась в предреволюционные годы, о чем свидетельствуют и архивы полиции[292]), которые, словно оставив свою основную профессию, превращались в сказительниц собственной биографии. Конечно, в большинстве случаев речь шла о «художественном повествовании», и мемуары эти не могут рассматриваться как подлинное свидетельство, но их обилие все же заставляет историков рассматривать подобного рода тексты как пусть и косвенное, но все же отражение исторической истины. Большинство из них поражает своим все усиливающимся пессимизмом и своеобразным «утяжелением» описаний дебоша, который уже теряет все очарование сладострастия, присущее лучшим романам либертинажа, и «превращается в каталог поз и положений»[293]. На смену поиску удовольствия, которое было, как мы видели, основной составляющей философии либертинажа, приходит размышление о риске, которому подвергаешься, вступая в связь (так, героиня одного из подобных романов, анонимного сочинения «Переписка Эвлали, или Картина парижского либертинажа», оплакивает участь своей подруги, которую совратитель «повесил на дереве с отрезанными сосками»[294]). Гедонистические настроения, едва возникнув, очень быстро сменяются здесь размышлениями о болезнях, разрушении, смерти. И над всем царит идея справедливого возмездия. «О, роковой либертинаж, до чего ты меня довел!» — восклицает героиня «Переписки…» в финале[295].
За гигиенической и экзистенциальной проблематикой нередко скрывается чисто социальная и политическая подоплека. Обратим внимание, что практически все героини описывают бессилие своих благородных клиентов, толкающее их на разного рода извращения. Возникает ощущение, что сама эпоха Старого режима характеризуется утратой сексуальной энергии. И напротив, те, кто традиционно воспринимался как маргиналы общества, — слуги, конюхи, ремесленники и проч. — характеризуются как обладатели утраченной аристократами силы. Политическая коннотация здесь очевидна: возрождение задыхающегося века может прийти лишь от низов, потому что элита уже более ни на что не способна. Эта логика станет чуть позже центральной в памфлетах времен революции, где аристократ, враг народа, будет ассоциироваться со стерильной сексуальностью, в то время как третье сословие станет воплощением вновь обретенной мужественности[296].
Сама же история героинь-куртизанок впишется в циклическую историю времени, став ее видимой эмблемой: как на смену эйфории чувственных отношений приходят страх и разрушение, так и на смену эйфории Просвещения приходит тягостное размышление о будущем этого так называемого Просвещения. Каждый частный дебош с необходимостью создает массу общественного дебоша, который, в свою очередь, провоцирует частный. Так же как куртизанка раскаивается в том, что поддалась соблазну, но не может уже ничего изменить, так и Франция уже не в состоянии сойти с дороги зла. Именно об этом совершенно отчетливо говорит анонимный автор «Исповеди куртизанки, ставшей философом» (1784), который, в преддверии исторического кризиса, проводит параллель между ложным путем проституции и ложными путями нации[297].
Показательно, что подобной же логике, но доведенной, как это у него всегда бывает, до парадокса, пытается подчинить своих героев в годы террора и маркиз де Сад. Нация пришла к 1789 году со всем грузом многовековой коррупции. «Остерегайтесь слишком увеличивать народонаселение», — говорит либертен Долмансе юной Эжени в программном тексте де Сада «Философия в будуаре» (1795)[298]. За этой фразой — весь глубокий скепсис Сада в отношении «очистительных возможностей» революции. В своей замечательной и по сей день не потерявшей актуальности статье Пьер Клоссовски писал: «Революция, переживаемая старой и разложившейся нацией, никоим образом не может дать ей надежду на возрождение; не может быть и речи о том, что начнется счастливая эпоха обретенной естественной невинности, поскольку эта нация освободилась от аристократии. Режим, основанный на свободе, по Саду, должен стать и в действительности станет ни больше, ни меньше, как разложением монархии, доведенным до предела. <…> Иными словами, уровень преступности, до которого ее довели бывшие властители, сделает эту нацию способной пойти на цареубийство с целью установления республиканского правления, то есть социального порядка, который в силу свершившегося цареубийства вызовет к жизни еще более высокий уровень преступности»[299].