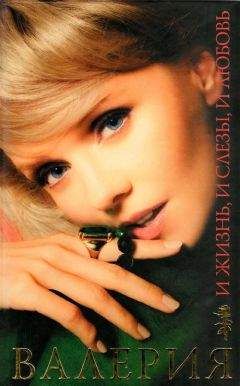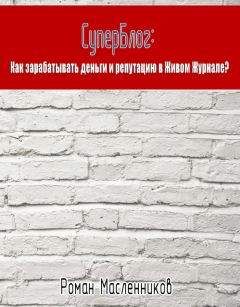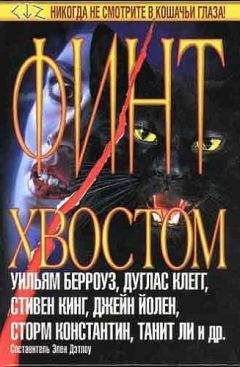Валерия Пустовая - Матрица бунта
Христос и Сталин — антиномия, заданная Прилепиным в рассказе «Сержант» и олицетворяющая ключевые для него оппозиции справедливости и власти, истины и силы, цивилизации и варварства, человечности и зверства, свободы и природы. Подмена абсолютного относительным — один из сюжетов «веховской» полемики с радикальной интеллигенцией, основавшей свою этику на идее народного блага. Прилепин воспроизводит этот исторический шаблон русского интеллигентского самосознания, но углубляет народолюбие до природолюбия. Посыл его искания понятен: обратиться к непреходящему в эпоху, когда все актуальное обмануло. Но ход мысли, понукающий только-возобновляемое принять за вечное, иначе как ложный, идущий на заведомое противоречие оценить нельзя.
Прилепин не чужд переживанию Божественного присутствия. Но его Абсолют — не сам Творец, а Природа как безличный поток тварности, которому Прилепин и молится: «Природа оставила их, природа больше не интересуется ими. Природе интересен Восток, ей вечно интересен Китай, и, смею надеяться, ей любопытна богоискательная, безумная, раскаленная Россия — бешеная и ленивая одновременно» (эссе «Мы знаем, чем все это кончится»). Отчужденный образ Бога как «абсолютного механизма, подчиненного своей логике», тут глубоко принципиален (эссе «Смешная жизнь земная, или вслух о вечных ценностях»). Не имеющий «никакого отношения к человеческим представлениям о морали и милосердии», Бог-Творец уволен от могущества управить нашей повседневностью и историей. Апелляция к Господу в прозе и эссеистике Прилепина поэтому вступает в противоречие с его поиском опоры в безличном, почвенном, дохристовом и даже дочеловечном.
Следуя поверхностной логике светской, культурной религиозности, Прилепин трактует Христа исключительно страдательно (не случайно кодовое упоминание этого имени в сцене избиения Саньки: «Даже Христа не раздевали, гады вы») — как образ жертвы, а не победителя мира, с акцентом на казнь, а не на воскресение. Но страдательная правда, как мы уже выяснили, маркирована заведомой неправотой поражения. А значит, чтобы выжить и победить, нельзя опереться на Христа — надо вернуться во времена до Рождества: «До Христа — то, что было до Христа: вот что нужно. Когда не было жалости и страха. И любви не было. И не было унижения… Сержант искал, на что опереться, и не мог: все было слабым, все было полно душою, теплом и такой нежностью, что невыносима для бытия. Откуда-то выплыло, призываемое всем существом, мрачное лицо, оно было строго, ясно и чуждо всему, что кровоточило внутри. Сержант чувствовал своей лобной костью этот нечеловеческий, крепящий душу взгляд… <…> — Ты чего увидел? — спросил Самара. — Сталина, — ответил Сержант хрипло, думая о своем. <…> — Все нормально. Собирай посты. Пошли охотиться» («Сержант»).
В не разрешенной оппозиции земного и небесного коренится раздвоение духовных основ. Подобно тому как рядом с Христом встает образ Сталина, так священные книги оттеняются статистикой («Я доверяю только священным книгам и статистике» — эссе «Жизнь удалась или еще раз о вечном»), упование на Бога — опорой на инстинкт («От превращения в зверя нас никто не спасет кроме Бога. Но для того, чтобы нас не превратили в зверей другие, чужие нам, — нам нужен только мужской инстинкт. Его надо беречь», «нас ничто не защитит от новых времен, кроме инстинкта и веры» — эссе «Нам не в чем будет себя упрекнуть»), молитва — властью убивать («Иван Грозный убивал. И еще он молился, отмаливал и замаливал, и сочинял музыку, пока в Европе пошлые правители резали младенцев и жгли женщин, и никогда не стыдились этого…» — «Я пришел из России»), нательный крестик — снайперской винтовкой («У нас снайпер был. Иногда нательный крестик клал в рот перед выстрелом. Говорил, помогает» — «Санькя»). Революционная прагматика игнорирует универсальность принципа «не убий», оправдывая грех пользой дела: «Почему здесь живут такие злые люди? Если бы они не были такие злые, их бы никто не убивал» («Санькя»). Вряд ли по недосмотру, но в любом случае показательно в гимн мужеству героя прокрадывается словно бы вывернутая аллюзия на постулат проповеди Христа: «Ни один человек класса с седьмого его не обидел. Саша иногда вспоминал: может, забыл он хоть одну обиду, простил кого напрасно» («Санькя»). Таким образом, призывая радоваться жизни «с умом и тактом пред Божественной логикой» (эссе «Больше ничего не будет (Несколько слов о счастье)»), Прилепин не задумываясь подламывает эту логику под практические задачи выживания.
Но «Божественная логика» зиждется на идее вечности. Тогда как природная — оказывается ветхой опорой, в себе самой заключая единственный контрдовод: тлен. Циклическая возобновляемость, вечное возвращение — вот единственный образ бессмертия, который заложен в тварном мире и которому в человеке сопротивляются начала единичности и творчества — личностные начала. Чтобы снять мучительный разлом между упованием на земное и сознанием его мимолетности, Прилепин решается выключить этот личностный — сверхприродный, духовный, бессмертный — план в человеке. «Душа должна рассосаться совсем, оставив только рефлексы, управляющие телом, — вот рецепт окончательного счастья», — иронизирует И. Фролов[46] над эволюцией прилепинского героя.
Герой. Исходник, из которого лепится впоследствии герой Прилепина, запечатлен в его дебютном романе о чеченской войне «Патологии». В образе Егора Ташевского выражено сознание частное, антигероическое — это принципиально не-воин в ситуации войны. Взаимоотношения с девушкой его пока волнуют сильнее отношения к Родине, а проблема выживания перевешивает задачу пестования мужественности. Именно такое сознание становится источником специфической образности «Патологий», отражающей взвинченную впечатлительность человека в условиях, противных его человечности. Герою «ежесекундно мнится», и в этой некрепости нервов есть только непосредственность чувства, еще не придавленного мифостроительным напором более поздней прилепинской прозы.
Акцент на непосредственности делает в своей интерпретации Прилепина и Д. Быков. В предисловии к сборнику «Грех» он противопоставляет героя Прилепина, «которого переполняет обычное счастье жить, любить, творчески самоосуществляться, наслаждаться собственным здоровьем, силой и остротой восприятия», — «классическому» персонажу «нашей пасмурной литературы», который страдает «от того, что у него все есть», и которому «становится кратковременно хорошо» только «вследствие обретения спасительной социальной идеи, она же панацея от всего»[47]. Но в том-то и дело, что Быков описывает тут не состоявшегося Прилепина. В полном соответствии с радикальной традицией русского интеллигентства, его герой бежит от непосредственного наслаждения жизнью, потому что его личное счастье не полно без исправления внеличного контекста.
Частник, взявшийся играть государственника, человек с семейными ценностями, принявший позу воина, герой Прилепина становится жертвой «панацеи»-идеи.
В эссеистике Прилепина это соответствует переключению с личного жизнестроения: «Вышел и расплакался… <…> И написал жене sms, что мир вокруг нас преисполнен такой невыносимой на вкус печалью и горестью, что всем у нас просто нет иного выбора, чем бесповоротно и навек приговорить к счастью хотя бы самих себя. Пока мы в силах. Пока мы в разуме. Пока мы вместе» («Больше ничего не будет (Несколько слов о счастье)»), — на идею глобального переустройства: «А что ты имеешь против прелестных уголков и нормальной человеческой жизни, спросят меня. <…> Достала любовь к малой Родине. Невыносимо надоела теория малых дел. Я сделал все малые дела <…>. И что? И где результаты в моей большой Родине? Сдается, пока я делаю свои малые дела, кто-то делает в противовес мне свои большие, и вектор приложения сил у нас совершенно разный. <…> Хочется большой страны, больших забот о ней, больших результатов» (эссе «Маленькая любовь к маленькой стране»).
Так женственные мотивы любви и очага, деторождения и пола, сладких обид и тайн двоих подминаются брутальным сапогом социальной программы. Так «редчайший», по выражению Быкова, образ счастья в прозе Прилепина трансформируется в традиционное страдание «нашей пасмурной литературы», а бездумный, непосредственный герой решается на принципиально идейное самоосуществление. «Никто не жил — все делали <…> общественное дело»[48], «героический интеллигент не довольствуется поэтому ролью скромного работника <…>, его мечта — быть спасителем человечества или по крайней мере русского народа»[49], — приходится в пору актуальному Прилепину старинная «веховская» тема.