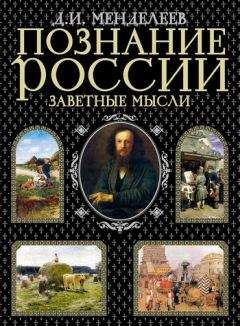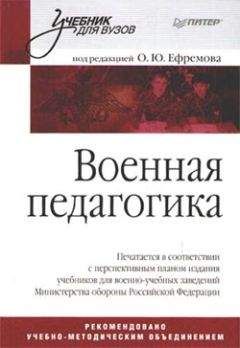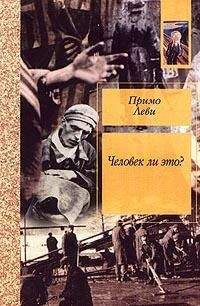Примо Леви - Канувшие и спасенные
Но, конечно же, большая часть преследуемых семей (в первую очередь еврейских) оставалась в Италии и Германии, и это чистая правда. Спрашивать «почему» — значит в очередной раз демонстрировать приверженность стереотипам и анахронистическому представлению об истории, а проще говоря, невежество и забывчивость, которые распространяются и нарастают по мере удаления во времени. Европа 30-40-х годов не была похожа на сегодняшнюю Европу. Эмигрировать всегда мучительно, но тогда это было труднее и дороже, чем сейчас. Чтобы уехать, требовалось не только много денег, но и «зацепка» в стране, куда они ехали, — родственники или друзья, способные обеспечить приют. Многие итальянцы, главным образом крестьяне, эмигрировали в предыдущие десятилетия, но их заставили уехать голод и нищета, к тому же у них были «зацепки», по крайней мере они так считали. Часто их приглашали и хорошо устраивали там, где не хватало рабочих рук, но и для них, и для их семей решение покинуть отечество было очень болезненным.
«Отечество» («patria») — стоит остановиться на этом слове. Оно не из разговорного лексикона. Ни один итальянец никогда не скажет всерьез: я сажусь в поезд и возвращаюсь в свое отечество. Слово это неоднозначно и сравнительно молодо. Оно не имеет точного эквивалента ни в других языках, ни (насколько мне известно) в наших диалектах (что свидетельствует о его книжном происхождении и тяготении к отвлеченным существительным), да и в самом итальянском оно не всегда выступало в таком значении. Будучи понятием географическим, в разные времена оно варьировалось в своих границах — от деревни, где человек родился и где (этимология слова указывает на это) жили его отцы, до всей страны (после Рисорджименто). В других языках это слово чаще всего ассоциируется с семейным очагом или местом рождения. Во Франции (а теперь и у нас) слово «patrie» обрело одновременно драматическую, полемическую и риторическую окраску: его употребляют, когда «отечеству» что-то угрожает или его не признают.
Утех, кто покидает родные места, воспоминания об отечестве вызывают душевную боль, пока постепенно не изглаживаются из памяти. Еще Пасколи, уехав (не так уж и далеко) из своей Романьи, из «сладостного края», вздыхал:[63] «Мое отечество там, где я живу». А для героини «Обрученных» Лючии Монделлы отечество ассоциировалось с разновеликими вершинами гор, встающих из вод озера Комо. В странах же интенсивной внутренней миграции, какими сегодня являются Соединенные Штаты и Советский Союз, слово «отечество» обретает исключительно политический и бюрократический смысл. Где домашний очаг, где отчий край этих граждан, постоянно переезжающих с места на место? Многие из них не знают этого, да и не хотят знать.
Но Европа 30-х годов была совсем другой. Уже индустриальная, частично урбанизированная, она продолжала оставаться в основе своей крестьянской. «Заграница» для подавляющего большинства населения, особенно для не знающего крайней нужды среднего класса, была далекой, смутной декорацией. Несмотря на гитлеровскую угрозу, большая часть итальянских, французских, польских и тех же немецких евреев предпочла остаться там, где чувствовала себя в своем отечестве. Мотивация была сходной для всех, хотя и имела в каждой стране свои оттенки.
Это было время серьезной политической напряженности, и европейские границы, сегодня существующие почти номинально, практически закрылись, так что организационные трудности, связанные с эмиграцией, коснулись всех. К тому же Англия и обе Америки резко сократили квоты на въезд в свои страны. Но существовали и другие трудности, личного, психологического характера, и они даже перевешивали трудности организационные. Эта деревня, этот город, эта область, этот народ — мои, здесь я родился, здесь похоронены мои предки. Я говорю на этом языке, я усвоил здешние обычаи и культуру, в которую, возможно, внес и свой вклад. Я платил налоги, соблюдал законы, участвовал в войнах, не задумываясь, справедливы они или нет. Я рисковал жизнью, защищая границы этой страны, некоторые мои друзья и родственники лежат на военных кладбищах, да и сам я, следуя общепринятой риторике, заявлял, что готов отдать за эту страну жизнь. Я не хочу и не могу покинуть ее; если мне суждено умереть, я умру в «своем отечестве», это будет мой способ умереть за него.
Ясно, что эта скорее домашняя, «оседлая», нежели патриотическая позиция не была бы такой стойкой, если бы европейские евреи не оказались столь близорукими. Нельзя сказать, будто ничто не предвещало грядущую бойню. Уже в самых первых своих книгах и речах Гитлер высказывался вполне определенно: евреи (не только немецкие) — паразиты на теле человечества; их надо уничтожать, как уничтожают вредных насекомых. Но дело в том, что пугающие выводы с трудом пробивают себе дорогу: до последнего момента, до начала погромов, учиненных нацистскими (и фашистскими) дервишами, евреи находили возможность не замечать угрожающих сигналов, игнорировать опасность, создавать удобную для себя правду, о которой я говорил на первых страницах этой книги.
В большей степени, чем к итальянским евреям, это относится к евреям немецким, почти сплошь принадлежавшим к классу буржуазии и считавшим себя немцами. Как и их псевдосоотечественники «арийской расы», они любили закон и порядок и не только не предвидели государственный террор, но были органически не способны поверить в него, даже когда уже все говорило об этом. У Христиана Моргенштерна, эксцентричного баварского (а не еврейского, несмотря на фамилию) поэта, одно из его знаменитых стихотворений заканчивается строкой, привести которую здесь будет как раз к месту, хотя написана она была в 1910 году в добропорядочной законопослушной Германии, описанной Джеромом К. Джеромом в его книге «Трое в лодке, не считая собаки». Строка эта настолько немецкая и настолько емкая, что вошла в поговорку; на итальянский ее трудно перевести, не исказив неловкой перифразой: «Nicht sein kann, was nicht sein darf»[64].
Этой строкой заканчивается символичное стихотворение, в котором один до крайности законопослушный немецкий гражданин по имени Пальмштрем попадает под грузовик на улице, где автомобильное движение запрещено. С трудом поднявшись на ноги, он рассуждает: если проезд здесь запрещен, значит, машины здесь ездить не могут, а раз не могут, то и не ездят. Ergo [65], наехать на него никто не мог, это был бы «невероятный факт» («Unmogliche Tatsache» — так стихотворение и называется), значит, ему все это приснилось: «ведь то, что не имеет права на существование, существовать не может».
Нужно остерегаться судить задним числом, нужно избегать стереотипов. Иными словами, к давно и далеко происходившим событиям подходить с мерками, принятыми здесь и сейчас, — это ошибка; причем чем больше увеличивается пространственно-временная дистанция, тем ошибочней будет суждение. По этой причине нам, неспециалистам, трудно понимать библейские и гомеровские тексты, греческих и латинских классиков. Многие тогдашние европейцы, и не только европейцы, и не только тогдашние, вели да и ведут себя, как Пальмштрем, отрицая существование того, что не должно существовать по логике вещей. Согласно расхожему мнению (проницательный Мандзони противопоставлял его «здравому смыслу»),[66] человек, которому грозит опасность, предпринимает попытку защититься или убегает. Но многие опасности, сегодня ставшие очевидными, в то время были скрыты от нас — из-за нежелания верить, из-за отторжения подлинной правды и замены ее на благодушно-утешительную.
Тогда, естественно, возникает встречный вопрос: насколько мы, люди конца века и тысячелетия, в первую очередь европейцы, уверены в завтрашнем дне? Известно (в этом можно не сомневаться), что накопленное на планете ядерное оружие составляет три или четыре тонны тротила на душу населения. Если использовать только один процент всего ядерного арсенала, десятки миллионов умрут сразу же, и всем, оставшимся в живых (за исключением разве что насекомых), будут грозить необратимые генетические изменения. Вполне возможно, что Третья мировая война, пусть условная, пусть частичная, разыграется на нашей территории — между Атлантикой и Уралом, между Средиземным морем и Арктикой. Сегодня угроза иная, чем перед Второй мировой войной, она дальше от нас, зато масштабней предыдущей. Некоторые видят причину всех событий в демонизме истории — явлении новом, еще не разгаданном, хотя и не связанном (пока что) с человеческим демонизмом. Это угроза для всех без исключения, а потому она особенно «бесполезна».
Что же делать? Сегодняшние страхи столь же основательны, как и тогдашние? Мы слепы перед будущим, и в этом мало чем отличаемся от своих родителей. Швейцарцы и шведы построили у себя противоядерные убежища, но что они найдут на Земле, когда выйдут на свет после ядерной катастрофы? Существуют Полинезия, Новая Зеландия, Огненная Земля, Антарктида — они, возможно, не пострадают. Сегодня получить заграничный паспорт и въездную визу гораздо проще, чем тогда; отчего же мы не уезжаем, не оставляем свою страну, почему не бежим раньше?