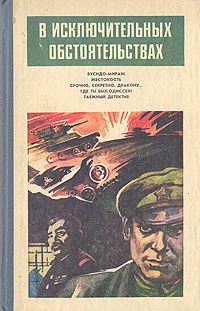'Одиссей' Журнал - Одиссей за 1996 год
Франкские источники, как правило, скрывают от нас внутреннюю природу индивида, и для того чтобы к нему пробиться, надобны, как мы видим, обходные пути. И в данном случае работа с источником органически связана с изучением культуры. Источниковедение из вспомогательной исторической дисциплины перерастает в нечто совершенно иное - в изучение культуры, в недрах которой возник исторический источник. Вместе с тем источниковедческий анализ перестает быть некоей предварительной стадией исторического исследования, ибо единоборство с источником не может не пронизывать это исследование от начала до конца.
Знакомство с трудами постмодернистов, работающих на поприще историографии, приводит к заключению, что они концентрируют внимание на трудности, если не на невозможности пробиться сквозь текст источника к породившей его исторической действительности. Соглашаясь с тем, что подобная процедура и в самом деле подчас головоломна, я все ^ке-склонен утверждать: памятники прошлого способны дать нам информацию о нем, сколь ни сложно то преломление, в каком оно предстает в источниках. Сталкиваясь с герметичностью того или иного сообщения, историк вынужден расширять поле своих наблюдений и исследовать не изолированные тексты, а их комплексы, ибо только в более широком контексте разрозненные свидетельства могут обрести свой смысл. Иными словами, в историческом источнике мы имеем дело с определенной интерпретацией. Его версия служит для современного историка материалом для новой, вторичной интерпретации.
4 Зак. 125
ЙЙ
98 Hcropuk в nouckax метода
Все эти процедуры, как может показаться, все дальше уводят нас от события в его "первозданном" виде. Но историческая наука, основывающаяся на нарративе, на рассказе о событиях, всегда неизбежно сопряжена с указанными трудностями. Историки, сосредоточивающие свое внимание на событиях, поступках людей, на хаосе повседневной жизни с ее бесчисленными течениями, неизбежно остаются в зависимости от своих информаторов, точно так же, как сами эти информаторы - лица, некогда писавшие об этих событиях, в свою очередь зависели от широты или узости собственного кругозора, от системы взглядов и ценностей, которой они были привержены, от случайной констелляции доступных им сведений.
Не потому ли Марк Блок и Люсьен Февр, порывая с традициями позитивистской историографии, столь решительно отвергли "историюрассказ"? Противопоставляя повествованию о событиях исследование глубинных пластов исторической действительности, они стремились докопаться до таких явлений, сообщения о которых не подвластны или в меньшей мере подвержены воздействию индивидуального сознания или намерений автора исторического текста. Помимо того, о чем прошлое устами хронистов намеревалось сообщить, в текстах источников можно обнаружить немало такого, о чем оно, это прошлое, вовсе и не собиралось рассказать; это ненамеренные, непроизвольные высказывания источников, это то, о чем авторы исторических текстов проговаривались помимо собственной воли. Этот "иррациональный остаток", не подвергшийся цензуре сознания создателей текстов, - наиболее драгоценное и подлинное историческое свидетельство. На самом деле, этот остаток и представляет собой наиболее рациональное содержание исторического источника.
Предостережения постмодернистов, адресованные историческому нарративу, в гораздо меньшей мере затрагивают историю культуры, быта, повседневной жизни, систем ценностей, ментальностей и картин мира. Именно здесь, в этом пласте исторической действительности в первую очередь можно получить новые знания.
Здесь нелишне вновь подчеркнуть, что богатство собираемого историком материала определяется тем, как им очерчен общий исторический контекст, в рамках которого исследуется этот материал, и кругом вопросов, задаваемых источникам.
"Непрозрачность" источника представляет собой, однако, лишь часть тех трудностей, с которыми сталкивается историк. В своем исследовании он неизбежно вступает в отношения с предшественниками - историками, которые разрабатывали ту же или сходную проблему до него, и он не может игнорировать историографическую традицию. Он либо примыкает к ней, либо пытается пересмотреть ее, но в любом случае он от нее зависит. Он наследует от своих предшественников научную проблематику, равно как и методы исследования. В течение периода, отделяющего историческое событие от современного историка, сменились поколения исследователей, и важно знать те трансформации, которые пере
А Я. Гуревич. ^Территория историка" 99
жило толкование этого события в трудах представителей разных школ и направлений исторической мысли. Мы зависим от своих предшественников даже в тех случаях, когда ставим под сомнение плоды их исследований.
Новые поколения историков подчас воспринимают некоторые основополагающие парадигмы как неоспоримую и необсуждаемую данность. Так, к современной историографии перешла от предшествующей идентификация письменной культуры с культурой вообще. Подобное приравнивание на первый взгляд кажется естественным, поскольку о прошлом историкам известно только из памятников письменности. Историк изучает тексты, которые сохранились в книгах и рукописях, и ими, как правило, ограничивается его горизонт. Но при этом, вольно или невольно, он переносит на прошлое те представления, которые присущи современности. В Новое время устная традиция оттеснена на далекую периферию культуры, расценивается как нечто второстепенное и ни в коей мере не определяющее ее природу и содержание. Эту модель без особых оговорок переносят, в частности, и на средневековье. В результате его изображают в виде культуры Книги, т. е. Библии, и книг, сочиненных богословами, философами, поэтами. Это "официальное" средневековье воспринимается как единственно существенное и достойное изучения.
То, что подавляющее большинство населения Европы не было приобщено к грамотности, истолковывается учеными как бескультурность. Противоположность "ученых", "образованных" (litterati) "неграмотным", "невежественным" (illiterati) - одно из профилирующих разграничений в средневековом обществе. Образованность, владение книжной культурой были признаком принадлежности к числу посвященных, к элите. Незнание латыни, языка, на котором, собственно, только и можно было обращаться к Богу, напротив, служило симптомом "мужицкой неотесанности". Все, что лежало за пределами книжной грамотности, расценивалось как примитивное и не заслуживающее интереса.
Но было бы глубочайшим заблуждением, если бы историки безоговорочно восприняли эту официальную установку церкви. В действительности, письменная коммуникация представляла собой лишь один аспект средневековой культуры. За пределами книжности оставались огромные массивы человеческих отношений. Мифы, сказания, предания, повествования и песни о героях древности на протяжении многих столетий передавались изустно, неприметно трансформируясь и вбирая в себя новые мотивы и эпизоды. Историкам литературы известна лишь небольшая часть этих песней и легенд, а именно то, что по тем или иным причинам попало в поле зрения образованных и привлекло их внимание. Все остальное либо безвозвратно утрачено, либо сохранилось в незначительных фрагментах. Многие легенды и сказания носили языческий характер, в силу чего ученые авторы вообще не считали возможным фиксировать их на пергаменте или бумаге. Между тем устный эпос представлял собой ту необъятную стихию, в которой функционировало человеческое сознание,
100 Hcropuk в nouckax метода
черпая из нее свои определяющие координаты - представления о жизни и смерти, о потустороннем мире и его обитателях, о времени и пространстве... Мифопоэтическое и эпическое сознание характеризовалось специфическими идеями о достоверности и истинности, которые существенным образом отличаются от идей, присущих сознанию общества с развитой письменной культурой. Эти особенности сознания наложили свой отпечаток и на многие памятники средневековой письменности. Как правило, сообщения авторов той эпохи, касающиеся цифровых данных или хронологических отрезков, внушают серьезные сомнения. Сугубая приблизительность их сведений о численности участников событий или расстояниях несет на себе отпечаток устной традиции, опиравшейся на память. Историческое время, т. е. время, охватываемое достоверным знанием, было кратким, а по мере углубления в прошлое делалось легендарноэпическим и туманным. Из многих документов, в том числе относящихся и к концу средневековья, явствует, что люди сплошь и рядом не знали точно даже собственного возраста. Не показательно ли то, что, судя по имеющимся свидетельствам, среди грамотных преобладала тенденция читать письменные тексты вслух, а не про себя? Читатель книги как бы оставался в ситуации устной коммуникации и не был способен полностью "приватизировать" процесс чтения. Многие авторы диктовали тексты писцам, а не записывали их сами, - и здесь устное, звучащее слово не сдавало своих позиций.