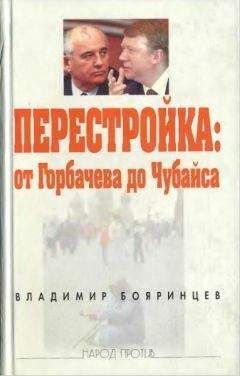Соломон Волков - Диалоги с Иосифом Бродским
СВ: Когда Оден разговаривал, его лицо двигалось? Жило?
ИБ: Да, мимика его была чрезвычайно выразительна. Кроме того, по-английски с неподвижным лицом говорить невозможно. Исключение — если вы ирландец, то есть если вы говорите почти не раскрывая рта.
СВ: Быстро ли Оден говорил?
ИБ: Чрезвычайно быстро. Это был такой «Нью-Йорк инглиш»: не то чтобы он употреблял жаргон, но акценты смешивались. Если угодно, это был «british английский», но сдобренный трансатлантическим соусом. Мне, особенно по первости, было чрезвычайно трудно за Оденом следовать; я никогда такого не слышал. Вообще встреча с чужим языком — это то, чего, я думаю, русский человек понять не то что не может — не желает. Он обстоятельствами жизни к этому не подготовлен. Вот вы знаете, как приятно услышать, скажем, петербургское произношение. Столь же приятно, более того — захватывающе, ошеломительно было для меня услышать оксфордский английский, «оксониан». Феноменальное благородство звука! Это случилось, когда мы приехали с Оденом в Лондон, и я услышал английский из уст близкого друга Одена, поэта Стивена Спендера. Я помню свою реакцию — я чуть не обмер, я просто был потрясен! Физически потрясен! Мало что на меня производило такое же впечатление. Ну, скажем, еще вид планеты с воздуха. Мне тотчас понятно стало, почему английский — имперский язык. Все империи существовали благодаря не столько политической организации, сколько языковой связи. Ибо объединяет прежде всего — язык.
СВ: Был ли разговор Одена похож на его прозу? То есть говорил ли он просто, логично, остроумно?
ИБ: По-английски невозможно говорить нелогично.
СВ: Почему же нет? Вполне возможно говорить напыщенно, иррационально…
ИБ: Я думаю, нет. Чем английский отличается от других языков? По-русски, по-итальянски или по-немецки вы можете написать фразу — и она вам будет нравиться. Да? То есть первое, что вам будет бросаться в глаза, это привлекательность фразы, ее закрученность, элегантность. Есть ли в ней смысл — это уже не столь важно и ясно, это отходит на второй план. В то время как в английском языке вам тотчас же ясно, имеет ли написанное смысл. Смысл — это первое, что интересует человека, на этом языке говорящего или пишущего. Разница между английским и другими языками — это как разница между теннисом и шахматами.
СВ: Как вы разговаривали с Оденом?
ИБ: Он был монологичен. Он говорил чрезвычайно быстро. Прервать его было совершенно невозможно, да у меня и не было к тому желания. Быть может, одна из самых горьких для меня вещей в этой жизни — то, что в годы общения с Оденом английский мой никуда не годился. То есть я все соображал, что он говорит, но как та самая собака, сказать ничего не мог. Чего-то я там говорил, какие-то мысли пытался изображать, но полагаю, что все это было настолько чудовищно… Оден, тем не менее, не морщился. Дело в том, что в настоящих людях — я не имею в виду Мересьева — в людях реализовавшихся есть особая мудрость… Назовите это третьим оком или седьмым чувством. Когда вы понимаете, с кем или с чем имеете дело — независимо от того, что человек, перед вами сидящий, вякает. Без разговоров. Это чутье, этот последний, главный инстинкт связан с самореализацией и, как это ни странно, с возрастом. То есть до этого доживаешь — как до седых волос, до морщин.
СВ: Мы оба видели много людей старых и совсем глупых…
ИБ: Совершенно верно. Вот почему я подчеркиваю важность самореализации. Есть некие ее ускорители, и литература — это один из них. То есть изящная словесность этому содействует.
СВ: Если в ней участвуешь…
ИБ: Да, совершенно верно, именно если в ней участвуешь. Я думаю, что читатель, как это ни грустно, всегда сильно отстает. Чего он там про себя ни думает, как он того или иного поэта ни понимает, он все-таки, как это ни горько, всего только читатель. Я не хочу сказать, что автор — существо высшего порядка. Но все-таки психологические процессы…
СВ: Протекают на разных уровнях…
ИБ: Главное — с разной скоростью. Я, например, занялся изящной словесностью по одной простой причине — она сообщает тебе чрезвычайное ускорение. Когда сочиняешь стишок, в голову приходят такие вещи, которые тебе в принципе приходить не должны были. Вот почему и надо заниматься литературой. Почему в идеале все должны заниматься литературой. Это необходимость видовая, биологическая. Долг индивидуума перед самим собой, перед своей ДНК… Во всяком случае, следует говорить не о долге поэта по отношению к обществу, а о долге общества по отношению к поэту или писателю. То есть обществу следовало бы просто принять то, что говорит поэт, и стараться ему подражать; не то что следовать за ним, а подражать ему. Например, не повторять уже однажды сказанного…
В старые добрые времена так оно и было. Литература поставляла обществу некие стандарты, а общество этим стандартам — речевым, по крайней мере — подчинялось. Но сегодня, я уж не знаю каким образом, выяснилось, что это литература должна подчиняться стандартам общества.
СВ: Это не совсем так. Общество и сейчас очень часто принимает правила игры, предложенные литературой, или, шире, культурой в целом.
ИБ: У вас довольно узкое представление об обществе.
СВ: Посмотрите на то, что происходит вокруг нас. Иногда кажется, что сейчас как никогда общество подражает тем образам, которые предлагаются, иногда даже навязываются ему искусством.
ИБ: Вы имеете в виду телевидение?
СВ: Для которого, не забудьте, работают и писатели, и поэты. Диккенс писал свои романы для еженедельных газеток с картинками; сегодня он, вероятно, работал бы на телевидении. И элитарная, и массовая культура— это части единого процесса.
ИБ: Соломон, вы живете в башне из слоновой кости. Страшно далеки вы от народа.
СВ: С кем бы вы сравнили Одена-человека?
ИБ: Внешне, повадками своими он мне чрезвычайно напоминал Анну Андреевну Ахматову. То есть в нем было нечто величественное, некий патрицианский элемент. Я думаю, Ахматова и Оден были примерно одного роста; может быть, Оден пониже.
СВ: Ахматова никогда не казалась мне особенно высокой.
ИБ: О, она была грандиозная! Когда я с ней гулял, то всегда тянулся. Чтобы комплекса не было.
СВ: Вы когда-нибудь обсуждали Одена с Анной Андреевной?
ИБ: Никогда. Я думаю, она едва ли догадывалась о его существовании.
СВ: Каковы были вкусы Ахматовой в области английской поэзии нового времени?
ИБ: Как следует Ахматова ее не знала. И знать не то чтобы не могла — мочь-то она могла, потому что английским владела замечательно, Шекспира читала в подлиннике. (Надо сказать, по части языков у Ахматовой дело обстояло в высшей степени благополучно. Данте я услышал впервые— в ее чтении, по-итальянски. О французском же и говорить не приходится.) Но помимо более чем полувековой оторванности от мировой культуры, помимо отсутствия книг, дело еще и в том, что в России, по традиции, представления об английской литературе были чрезвычайно приблизительные. Об этом и сама Анна Андреевна говорила: что русские об английской литературе судят по тем авторам, которые для литературы этой решительно никакой роли не играют. И Ахматова приводила примеры — один не очень удачный, а другой — удачный чрезвычайно. Неудачный пример — Байрон. Удачный — какой-нибудь там Джеймс Олдридж, который вообще все писал, сидючи в Москве или на Черном море. Если говорить серьезно, то представление об английской литературе в России действительно превратное (я имею в виду не только XX век, но и прошлые века). За исключением двух-трех фигур — скажем, того же Диккенса, совершенно замечательного писателя. Но ведь мы говорим как раз о поэзии; о ней вообще ничего неизвестно. Причины тому самые разнообразные, но прежде всего, я думаю, географические (которые я больше всего на свете и уважаю). Вспомните: у русских для всех народов, населяющих Европу, найдены презрительные клички, да? Немцы — это «фрицы», итальянцы — «макаронники», французы — «жоржики», чехи — «пепики». И так далее. Только с англосаксами как-то ничего не получается. Видно, пролив существует недаром. Мы не очень терлись друг о друга (что и замечательно). Другая причина — известная несовместимость того, что написано по-английски (особенно в стихах) с русской поэзией или с традиционным русским представлением об эстетическом. Англичан, прежде всего, трудно переводить. Но когда они уже переведены, то непонятно, что же перед нами возникает. Все мы в России знаем, что был великий человек Шекспир, но воспринимаем его как бы в некоторой перекидке, приноравливая, скорее всего, к Пушкину. Или возьмем переводы из Шекспира Пастернака: они, конечно, замечательны, но с Шекспиром имеют чрезвычайно мало общего. Очевидно, тональность английского стиха русской поэзии в сильной степени чужда. Единственный период совпадения вкусов — и тона — имел место, я думаю, в начале XIX века, в период романтизма. В тот момент вся мировая поэзия была примерно на одно лицо. Да и то Байрона в России не очень поняли. Русский Байрон — это сексуально озабоченный романтик, в то время как Байрон чрезвычайно остроумен, просто смешон. И этим действительно напоминает Александра Сергеевича Пушкина.