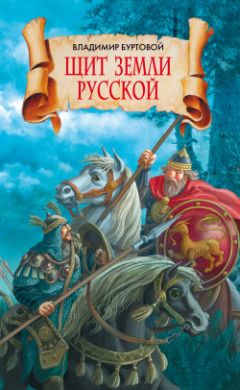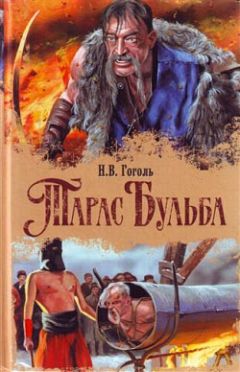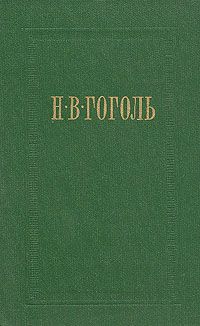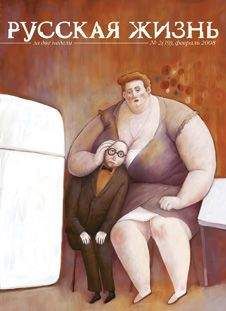Журнал Русская жизнь - ВПЗР: Великие писатели земли русской (февраль 2008)
Окуджава привнес в русскую литературу кавказский фатализм в сочетании с русской фольклорной скорбью: принимать участь - и плакать над участью, неукоснительно следовать долгу - и ненавидеть долг. Вероятно, эта коллизия умерла вместе с советским социумом: долг рухнул вместе с идеологемой (другой у большинства не нарос, религиозность не укоренена), а сентиментальность разрушена, поскольку она вообще-то есть свойство высокоорганизованной души, а эта высокая организация канула вместе с советской империей. Сегодня у нас - ни долга, ни милосердия, ни, соответственно, их конфликта; одно взаимное раздражение да составление списков на уничтожение. И когда среди этого голос Окуджавы напоминает нам - «Все мы топчемся в крови, а ведь мы могли бы…» - у многих возникает честное желание его заткнуть, чтобы не травил душу.
Так что понять М. Харитонова по-человечески я могу. Другое дело, что виноват здесь не Окуджава. Просто он лучше и потому нагляднее других.
Как и М. Харитонов, кстати.
Дмитрий Ольшанский
Манхэттенский странник
На 65-летие Эдуарда Лимонова
Главные условия вдохновения для художников: мистическая религия, война, социально-государственное обособление и простонародная свежая грубость.
Константин Леонтьев
I.
Мне было четырнадцать, и я успел проглотить уже достаточно хороших и правильных книг, чтобы взяться, наконец, за нехорошую и неправильную. Забравшись на верхнюю полку покидающего Москву поезда, я достал припрятанный загодя томик в грязновато-белой бумажной обложке и недоверчиво принялся за чтение. Обжигающее солнце заливало угол 55-й и Мэдисон-авеню, а на последнем, 16-м этаже отеля для самых бедных сидел еще неизвестный мне, но уже полностью раздетый герой и нагло жрал щи с кислой капустою «кастрюлю за кастрюлей». Из окон напротив на него смотрели обыватели, но он был только рад возможности показать им задницу. В этих, всего лишь начальных пассажах романа мне тотчас же почудилось нечто бесцеремонное, возмутительное: щи с капустою, голый, «пусть смотрят». Еще бы: «я не стеснительный, мне наплевать», - заявлялось на первой странице. Как не походила эта нахрапистая, физиологическая сцена на те стыдливые русские шедевры - Ерофеева, Довлатова, Шинкарева, - что в те годы составляли мои лучшие впечатления о словесности. Щи из кастрюли выглядели почему-то куда бесстыднее, чем задница. - Так писать нельзя, - твердо решил четырнадцатилетний моралист и хотел было сердито захлопнуть книжку, но - все-таки удержался. Возможно, дорога была слишком длинна и требовала развлечений, возможно - дурманящее нью-йоркское солнце, осветившее неведомые эдичкины трущобы, напомнило мне о зачине романа совсем другого писателя, которого я тогда уже любил и о котором мне нередко приходилось писать школьные сочинения. Так или иначе, в тот вечер моя невинность была отнята opus'ом magnum Лимонова, и то сопротивление, ожесточение даже, с которым я встретил его персонажа, час от часу таяло.
- Скверно, скверно, скверно, - испуганно пел кто-то лицемерный у меня в голове, покуда я жадно листал пачкающие руки страницы, но другой, сочувствующий автору романа голос понуждал меня вчитываться в самые отчаянные фрагменты, которые, странное дело, чем дальше, тем меньше казались мне скандальными, неприличными, вызывающими. Скорее, я чувствовал в них своеобразную грусть, природу которой мне было затруднительно определить в свои четырнадцать. - Наверное, он просто талантливый и чувствительный человек, вопреки тому, что такой злобный, жестокий и неприятный, - почти по-девичьи думал я, пытаясь как-то примирить свое явное удовольствие от романа - с таким же очевидным ощущением хищной, вульгарной неправильности творящегося на протяжении всего «Эдички» бедлама. Этот самый Эдичка, неприкаянный манхэттенский безработный, как выяснилось, впутывался решительно во все безобразия, какие только можно было найти на его бесконечных маршрутах, - пил, хулиганил, ревновал, штудировал Троцкого, с кем попало спал, уходил в революцию, грустил, наконец - и это последнее, та самая непонятная грусть, озадачивала меня больше всего. - Чего ему не живется? Зачем он шляется где попало, на что ему эти нелюбимые, пьяные женщины, каких утешений ждет он от своих головорезов и сумасшедших? - интересовался я у самого себя, уже завлеченный, но по-прежнему недоумевающий. - Это все оттого, что Елена ушла? Ну так влюбился бы в другую, в тридцать-то лет, - объяснял я герою, гордый своим олимпийским спокойствием и ранней мудростью. К этому времени я как раз покончил со своей первой любовью и установил для себя, что все девочки дуры и заслуживают одного только снисхождения. Лимоновский буйный тип, однако, не желал слушаться моего благоразумия и все бродил по запутанным нью-йоркским улицам, порядковые номера которых сливались для меня в одну хитроумную таблицу, смысла которой я не понимал так же, как и свалившегося на меня чужого романтического отчаяния. - Как же он не боится гулять там в полном одиночестве, в этом кошмарном Нью-Йорке? - то было последнее, о чем я спрашивал книжку, перед тем как дочитать ее и заснуть.
II.
Оспаривать тот факт, что Лимонов в лучшие свои годы сочинил изрядное количество замечательной русской прозы, сейчас уже не найдется охотников. Литературная среда, отрицавшая его, равно советская и антисоветская, давным-давно сгинула - в то время как «Дневник неудачника», «Американские каникулы» и «Харьковская трилогия», не говоря уж о первом романе, по-прежнему любимы старыми и свежими мальчиками и девочками, «бунтующими» и не очень. Достоинства всех этих романов и рассказов, кажется, очевидны, но на всякий случай заново перечислим их.
Лимонов придумал своего героя - близкого родственника персонажей Сэлинджера и Достоевского, племянника всевозможных революционных поэтов и антипода шестидесятников, в то же время близкого им тем скульптурным отношением к собственной биографии, которое не допускает бессобытийного и аккуратного прозябания за письменным столом и требует непременного вмешательства в ход истории. Демонстративно безнравственный, поверхностно циничный, этот литературный негодяй на самом деле куда больше интересуется моралью, исторической и бытовой, нежели «чистой эстетикой». Все лимоновские сюжеты посвящены, конечно же, вовсе не «сексу, преступникам и белым костюмам», но - преодолению инерции, мелочности, тавтологичной заурядности, заложенной в человеческой природе, созиданию античного почти что героя, решительного и трагического, из любого подсобного материала, на любом подвернувшемся политическом или географическом фоне. Манхэттенский ли он скиталец, парижский литератор или московский национал-большевик - все они у Лимонова восстают против энтропии и причудливым образом схожи в этом с автобиографическим героем книг Солженицына; Эдичка ведь тоже несомненный Теленок. Да-да, Эдуард Вениаминович и Александр Исаевич вообще-то не чужие друг другу авторы, оба они не горазды в полной мере «придумывать», зато и тот, и другой подарили нашей словесности по отменному alter ego, легко узнаваемому, вечно сражающемуся с предательством повседневности, каждый раз едва не гибнущему под ударами судьбы и, надо думать, теперь уже окончательно бессмертному.
Лимонов создал себе уникальную, только ему подходящую интонацию. Настроение его прозы как будто бы легко имитировать, но это только так кажется, ибо глубину ей придает особый рецепт, простой и в то же время сложноуловимый. Дело в том, что лимоновская стилистика - вовсе не такая злодейка, какой выглядит. Для нее оказываются органичными не только собственный блеск и чужие пороки, но и родное несовершенство, и страдания посторонних. Не чуждая насмешливости, ярости, безжалостности и злорадства, его надменная фраза то и дело переворачивается самоиронией, театральное высокомерие и напор сменяются растерянностью и поражением. Хваленая агрессивность разбойника-Эдуарда мало того, что вызывающе беззащитна, но часто только для того и нужна, чтобы вовремя оттенить, подчеркнуть то неожиданно заботливое внимание, которое уделяет он вроде бы и обруганным, и осмеянным тысячу раз подробностям и персонажам. Многие начинающие бестии пытались подражать «хулигану» в Лимонове, но никто из них и близко не смог полюбить так, как он - в этом смысле и та самая, знаменитая гей-сцена с черным бандитом Крисом из «Эдички», за которую его много лет будут осуждать разнообразные свиномордии, есть прежде всего отрывок, удивительный своей нежностью и подлинной эмоцией, а совсем не пощечина общественному вкусу. Теперь, когда эротические пассажи Лимонова выглядят прежде всего трогательно и старомодно, хорошо видно, что автор их волнуется, а не эпатирует, не издевается, но - любит.