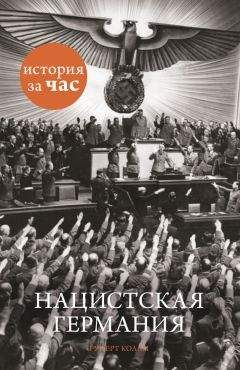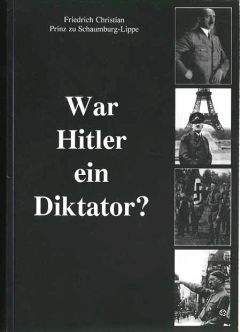Николай Устрялов - Германия. В круговороте фашистской свастики
И все же было бы ошибкой отрицать, что корпоративное государство Муссолини представляет собою поучительный опыт, диктуемый сложившейся исторической обстановкой. В нем слышится и стихийный натиск масс, сочетаемый с маневрами капиталистов, и подлинный взлет национального чувства, и живая работа современной социальной мысли, ищущей таких путей перехода к новому порядку, которые избавили бы европейские народы от взрыва коммунистической революции: в Европе — утверждают просвещенные европейцы — этот взрыв был бы неизмеримо более потрясающ и разрушителен, нежели в крестьянской и «бестрадиционной» России. Отсюда неутомимые усилия создать в государстве атмосферу «порядка и доверия», поднять авторитет власти, привить буржуазии догмат «функциональной собственности» и всему народу — идею социального служения, организовать в наличном обществе сверхклассовый национальный арбитраж государства, не только ведущего политику, но также контролирующего экономику и пасущего людские души. Ряд объективных признаков свидетельствует, что эти усилия принесли-таки в нынешней Италии осязательные плоды.
Как бы то ни было, идеократические революции нашей эпохи следует рассматривать и оценивать в свете всемирно-историческом. Их значимость переливается за пределы политических суждений и оценок сегодняшнего дня. На рубеже эпох народы взволнованы страстными идеями, мифами, зовущими к действию и борьбе. Здесь новое рождается в муках, там мертвой хваткой хватает живого. Здесь и там загораются огни разнообразных идей и ценностей, сплетенных с живыми чувствами, насыщенных кровными интересами. Эти отдельные, частичные, нередко бедные, порою наивные, неизбежно ущербные и в своей ущербности ложные, но вместе с тем и творческие идеи и ценности — утверждают себя, диалектически вытесняют друг друга, претендуют, каждая, на полноту и всецелую ценность, исчезают в синтезах, чтобы снова по-новому возникнуть на иных ступенях развития. Est irrt der Mensch so lang er strebt. Ho ошибки исканий — лучи умного солнца истины и добра, в них светится — высшее назначение, высокий удел человека. Так в «роковые минуты» сего мира предстоит во всей неповторимой конкретности и неизбывной противоречивости панорама истории, ландшафт катастрофического прогресса…
Вера и любовь движут жизнью, прежде всего. Бывают паузы, интермеццо во времени и пространстве. Но подлинно творческие, вдохновенные эпохи — всегда эпохи веры и любви.
«Неверующий XVIII век, — писал некогда Карлейль, — представляет, в конце концов, исключительное явление, какое бывает вообще от времени до времени в истории. Я предсказываю, что мир еще раз станет искренним, верующим миром, что в нем будет много героев, что он будет героическим миром! Тогда он станет победоносным миром. Только тогда и при таких условиях».
Вероятно, Карлейль не совсем прав насчет XVIII века: и он знал свою веру и свою любовь, страстные идеи трепетали и в нем. Но разве не зорка и не предметна сама мысль о верующем и героическом мире? О ней невольно задумываешься в наши дни.
Народы томятся о хлебе: мировой хозяйственный кризис. Но кризис этот — не каприз неодолимых сверхчеловеческих сил, не черствая лютость природы или плод случайного бедствия. Нет, он — результат болезни самого человека, народов, человечества, теряющих жизненный контакт, живую связь с хозяйством. Это кризис организации, кризис власти, кризис доверия. В конце концов, это кризис веры, миросозерцания.
И народы чувствуют это. И они охвачены жадными исканиями, вещими судорогами, одержимы страстными идеями. В обстановке шатаний, бед и упадка, на перекрестке эпох, мы убеждаемся, что далеко не иссяк запас творческой страсти, вложенной в человечество. Можно говорить о мире несчастном и бьющемся в тупиках, но вместе с тем можно говорить также — о «мире верующем и героическом»!
Май 1933 г.
Приложение
Исайя Берлин
Истоки фашизма
(отрывок из брошюры «Жозеф де Местр[4] и истоки фашизма»)
Историками, биографами, теоретиками политики, историками идей, богословами с большой тонкостью воссоздана политическая и социальная атмосфера конца XVIII — начала XIX в., специфика этого времени, когда на смену одним воззрениям приходили другие, резко противоположные; типичные представители этой эпохи — такие психологически неоднозначные фигуры, как Гете и Гердер, Шлейермахер и Фридрих Шлегель, Фихте и Шиллер, Бенжамен Констан и Шатобриан, Сен-Симон и Стендаль, российский император Александр I и, разумеется, Наполеон. Ощущения некоторых современников в известной степени передает знаменитое полотно Антуана Гро, изображающее Наполеона в сражении при Прейсиш-Эйлау (1808; ныне в Лувре). На нем представлен некий всадник, возникший из неизвестности, — странный, загадочный, запечатленный на столь же таинственном фоне; это l'homme fatal, сопричастный непостижимым силам, человек рока, являющийся ниоткуда, действующий в согласии с потусторонними законами, коим подвластно все человечество и, шире, вся природа; это экзотический герой барочных романов эпохи («Мельмот-Скиталец», «Монах», «Оберман») — новый, гипнотически притягательный, ужасный и глубоко волнующий.
Эту эпоху в истории западной культуры обычно считают кульминацией того продолжительного периода, когда формировались классические методы в философии и искусстве, основанные на наблюдении, рациональном постижении и исследовании. В то же самое время принято отмечать здесь влияние (нет, больше — воплощение) нового духа, который неутомимо и яростно стремится разрушить старые, тесные формы; робкий, но пристальный интерес к непрерывной смене внутренних состояний сознания; тягу к тому, что неопределимо и не имеет границ, к вечному движению и изменению; попытки вернуться к забытым источникам жизни; страстный порыв к самоутверждению — и личному, и коллективному; поиски средств для выражения непреодолимой тоски по недостижимым целям. Это мир немецкого романтизма: Ваккенродера и Шеллинга, Тика и Новалиса, иллюминатов и мартинистов. Он возникает из отторжения всего спокойного, цельного, светлого, понятного; его влечет к темноте, к ночи, к бессознательному, к потаенным силам, царящим и в каждой отдельной душе, и в окружающей природе. Он одержим стремлением к мистическому отождествлению двух личностей, непреодолимой тягой к недостижимому центру вселенной — средоточию тварного и нетварного миров; из него рождается ироническая отрешенность и неистовая неудовлетворенность, печальная и взвинченная, раздробленная, отчаянная и в то же время служащая источником всякого проникновения в суть вещей и подлинного вдохновения, разрушительного и созидательного одновременно. Этот процесс сам по себе разрешает (или растворяет) все внешние противоречия, вынося их за пределы обычного мышления и трезвых суждений, преображая их при помощи особенного зрения, которое иногда отождествляется с творческим воображением, а иногда — с особенным даром философского постижения «логики» и «внутренней сути» истории, с умением видеть многослойность метафизически понятого процесса роста, скрытого от поверхностных умозаключений материалистов, эмпириков и заурядных людей. Это мир «Гения христианства», «Обермана», «Генриха фон Офтердингена» и «Вольдемара», «Вильяма Лавелла» Тика и Шлегелевой «Люцинды», Кольриджа, новой биологии и физиологии, черпавших вдохновение в учении Шеллинга о природе.
К этому миру де Местр, по утверждению практически всех его биографов и истолкователей, не принадлежал. Он терпеть не мог романтического духа. Подобно Шарлю Моррасу и Т. С. Элиоту, он отстаивал тройственный союз классицизма, монархии и церкви. Он представляет собой воплощение ясного латинского ума, полную противоположность «сумрачному германскому гению». В мире полутонов и нюансов он отчетлив и ясен; в обществе, где религия и искусство, история и мифология, социальное учение, метафизика и логика, кажется, смешаны до полной неразличимости, он классифицирует, разделяет и придерживается своих разграничений жестко и последовательно. Он католик, реакционер, ученый и аристократ — «français, catholique, gentilhomme»; которого в равной степени оскорбляют идеи и деяния Великой французской революции; он с равной твердостью противостоит рационализму и эмпиризму, либерализму, технократии и уравнительной демократии, он враг секуляризма и всякой не имеющей строгого исповедания и институций религии. Это сильная, влекущая вспять фигура, чьи вера и методы ведут свое происхождение от Отцов Церкви и учения иезуитов.
Де Местр, возможно, говорил на языке прошлого, но суть сказанного им предвосхитила будущие события. В сравнении со своими передовыми современниками — Констаном и мадам де Сталь, Иеремией Бентамом и Джеймсом Миллем, не говоря уже о радикальных экстремистах и утопистах, — он в некоторых отношениях очень современен и родился словно бы раньше, а не позже своего времени. Его идеи не имели широкого влияния, но лишь потому, что при его жизни почва оказалась бесплодна. Его учению, и в еще большей степени — направлению его ума, пришлось прождать целый век, прежде чем они оказались (и слишком роковым образом) востребованы. Это утверждение может, на первый взгляд, показаться столь же нелепым парадоксом, сколь и любой из тех, за которые обычно высмеивали де Местра; чтобы сделать его правдоподобным, требуется наглядность.