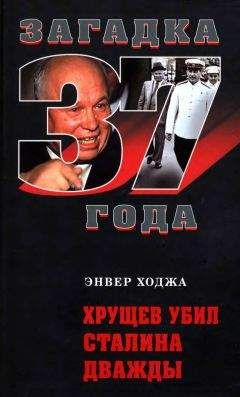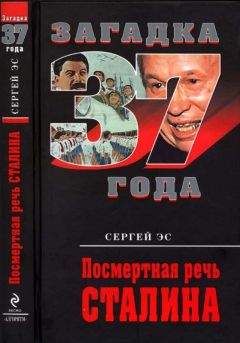Дмитрий Быков - Блуд труда (сборник)
Собственно, главных тем у Шкапской было три: материнство, спор с Богом, спор с предками, чьим наследием она тяготится и чьим мукам служит единственным оправданием, – и не думаю, что тема материнства, кровавого и трагического женского предназначения здесь главенствовала. Убежденная атеистка (так, по крайней мере, свидетельствует ее дочь), она в переломное время, когда обнажаются тайные механизмы бытия, вступила в напряженный и страстный диалог с Богом: то ли потому, что величие переживаемой эпохи напоминало о библейских катастрофах, то ли потому, что рядом не было более достойного собеседника. Кого было вопрошать о стольких смертях, стольких зверствах и таких могучих страстях, которые только ярче расцветали на жирном, хорошо удобренном черноземе тех времен? У Шкапской был в это время страстный, бурный роман. Тогда же она пережила аборт, оказавшийся для нее едва ли не главным, страшнейшим переживанием: почти все стихи из книги “Mater Dolorosa” (1921) – книги, сделавшей ей имя, как ни кощунственно это звучит в таком контексте, – посвящены нерожденному сыну. Его гибель и гибель тысяч детей, и всех, кто был когда-то детьми, – вот тема; и всех этих мертвых, как и своих мертвых, Шкапская с ее изначально трагическим мировосприятием (крик отца в желтом доме преследовал ее по ночам) чувствует кровно близкими, своими. Здесь и происходит ее самоотождествление с Россией, которая должна была родить новое и великое – а вместо этого захлебнулась собственной кровью. Эта тема нерожденного будущего проходит через всю книгу очень ясно:
“Ах, дети, маленькие дети, как много вас могла б иметь я вот между этих сильных ног, – осуществленного бессмертья почти единственный залог.
Когда б, ослеплена миражем минутных ценностей земных, ценою преступленья даже не отреклась от прав своих”.
Не говорите мне, что это только о себе.
“Вот между этих сильных ног” – да, это сильно сказано, и у самой Цветаевой немного найдется подобных физиологизмов, поскольку Цветаева мыслила себя все-таки прежде всего воплощенной душой, душой, которую плоть только бременит; отношения ее с партнером – это отношения с человеком, с которым они вместе попали в неловкую, стыдную ситуацию, в ней надо друг другу помогать и по возможности скорее, с наименьшими потерями из нее выйти. Тем более, что все равно ничто не может кончиться хорошо – это уж по определению. В стихах Шкапской все иначе, тут не дух воплощен, а плоть одухотворена, и главное ее оправдание – в деторождении, продолжающем род и делающем женщину сопричастной бессмертью (другого бессмертья она не видит и не хочет, слишком многого навидавшись). Не зря у нее в поэме “Явь” со всеми физиологическими деталями описана казнь через повешение – она сама в Новочеркасске была тому свидетельницей. Поэму эту в свое время, в 1921 году, напечатала “Правда”.
Невозможно избавиться от ощущения, что на первую половину двадцатых к Шкапской, к ее измученному сознанию подселился какой-то другой поэт или какая-то другая душа, особая сущность, придавшая ее стихам трубное и колокольное звучание – отсюда гудение ее пронзительных, сквозных “у”, обилие звонких согласных. Стихи эти писала женщина великой души, души, невесть откуда получившей свое величие, прозрение и всезнание. Чем другим можно объяснить такое ее пророчество: “Уже нестерпимо дышит над жизнью моей Азраил, но ночью проснусь и слышу шелест невидимых крыл, и шепот многих и многих голосов, неслышимых днем, и чьи-то легкие ноги обходят мой строгий дом. И знаю с тоскою в теле, и знаю с тоской в груди, что это те, что хотели через меня придти. Но спались крепкие жилы, и кровь холодна и бледна. Темны Азраиловы крылья, приходящая ночь темна”.
В это же время Мандельштам писал об Азраиле, который берет под руку “побежденную твердь”. Берет под руку – это сказано по-мандельштамовски двусмысленно, сказано человеком, для которого русский язык с его многозначностью был все-таки неродным (отсюда прелесть его неправильностей и недоговоренностей). Здесь “берет под руку” – разумеется, в значении “покоряет”. Небесная твердь покорена ангелом смерти, и ангел этот в стихах Шкапской появился тогда, когда после последней бури кончалось все. Наступала великая скука. Вместо родов случился аборт, и следствием этого аборта было такое же опустошающее молчание.
Пастернак в “Охранной грамоте” применительно к Маяковскому писал о страшной загадке, которая называется “последним годом поэта”. Внешне ничего не происходит или происходит ерунда, но на самом деле кончается жизнь. Жизнь кончается вместе с эпохой, которая дала поэту новый голос, но прервалась. Шкапской дала голос эпоха большой крови, и лучший ее сборник называется “Кровь-руда”. “Проливаем в любви и сечах, зачиная, родя, творя, нашей кровью затлели реки и цветут земные моря. Но течет угрюмо и красно единая с первого дня, всем дням и векам участна, и нас со всеми родня”. Жилы Шкапская воспринимала как провод, по которому бежит ток – ток крови, связующий ее со всеми бывшими и будущими. Но в густой плоти собственного текста ей тесно – отсюда и жар метафизического вопрошания: чем гуще и плотнее детали, тем более страстен и мучителен порыв вырваться, выпутаться из них. Отсюда и невероятное напряжение спора с Богом, чью справедливость, непостижимую для человека, она отвергает. У нее были об этом страшные стихи, которые она и печатать не решилась: “Боже, милый и трудный, внемлю! Но внемлешь ли нам и Ты? Иль только готовишь землю под белые эти кресты?”. Сходный вопль – “О Господи, ты что ж в меня не веришь?” – вырвался полвека спустя у другого петербургского поэта, и тоже у женщины, – у знатока и летописца деталей, у Нонны Слепаковой, которая показала мне когда-то израильское “Избранное” Шкапской: до русского тогда все еще не дошли руки. И теперь не дошли, но об этом – позже.
– Больше всего меня интересует, почему она замолчала, – сказал я при недавней встрече ее дочери, Светлане Глебовне.
– Это всех интересует, – улыбнулась она.
Но я, кажется, понимаю. Дело не в том, что нельзя вечно жить в таком напряжении, что ей было тридцать четыре года, и даже не в том, что, по ее собственному признанию, “лирика не нужна”. А просто – поэт наделен исключительным чувством времени, и когда вырождается время, вырождается поэт. В стихи Шкапской пришли чужие интонации, и опять невозможно поверить, что это пишет она: в них появилась искусственная, экстатическая бодрость и невыносимая скука. Эти стихи заговорили языком “научной поэзии”, языком очерка и социалистического строительства. Тут-то и случился аборт – в самом страшном, метафизическом его измерении: поэт удалил себя.
Ей стало казаться – и она написала об этом в автобиографии, – что в искусстве она такой же случайный странник, как и во всех других областях жизни. Ей стали окончательно тесны стихи. Она и всегда тяготела к прозе, к сюжету, к очерку (и “Явь” – отличный образец эпоса в достаточно вялой, бессюжетной русской поэзии: балладники у нас редки, мы все больше о чувствах). Стих стал ей тесен, оттого она и писала в строку, – но надо было идти дальше, а следующая ступень требовала метафизического рывка. На него-то у нее и не хватило сил, ибо, как сказал потом Мандельштам, “Поэзия – это сознание своей правоты”. Вся интеллигенция, поддержавшая Октябрь, этого сознания лишилась в одночасье, и Шкапская сказала об этом точнее других – тогда, когда еще не затыкала себе рот:
В моих путях запомнить мне велели
Лишь строгие печали Октября
Да маленькие горечи Апреля,
И вот – Страстной мне каждая неделя,
И омраченной – каждая заря.
То, что Октябрь здесь уподоблен – и противопоставлен – Пасхе, вполне органично для Шкапской. Но она первой почувствовала, что кровь, которая льется вокруг нее, – не кровь родов, не кровь битвы: “И кровь моя текла, не усыхая – не радостно, не так, как в прошлый раз, и после наш смущенный глаз не радовала колыбель пустая”.
Так видел и понимал поэт, а человек, к которому он подселился, видел иначе и пытался иначе говорить. Человек внушал себе, что пришла эпоха еще более великая, эпоха радостных строительств, – и в последнем, не опубликованном своем сборнике, так и оставшемся в рукописи и без названия, она пускает такого петуха, берет такие немыслимые ноты, что жутко становится от этого бесплодного насилия над собой.
Верно и то, что ей был тесен обычный поэтический язык, что в двадцать третьем она опубликовала прелестную книжечку китайских стилизаций “Ца-ца-ца” – замечательные стихотворения в прозе, едва ли не лучшие в двадцатых, но и это лишь стилизация, пение с чужого голоса, хотя и со своим надрывом. Вообще ужасна была участь молодых поэтесс двадцатых годов, среди которых были первоклассные – Адалис, например, а были и просто одаренные – Радлова, Павлович, Герцык; ни у кого из них не хватило сил продолжать на уровне своих первых стихов, подняться выше взятой высоты. Шкапская, кстати, дружила с Адалис. Выдержать и продолжать могли немногие, самые сильные, – сама Цветаева надолго замолчала во второй половине двадцатых, ибо суррогатный выход, предложенный Пастернаком, – выход в эпос, а по сути, в рифмованный очерк, – ее не устраивал. И Пастернак, и Маяковский, по точному определению Шкловского, стали писать “вдоль темы” – рассказывать не ИЗ, а ПРО. На пять лет замолчал Мандельштам, по стихотворению в год писала Ахматова. Шкапская ушла в очерк.