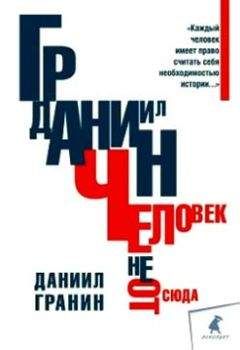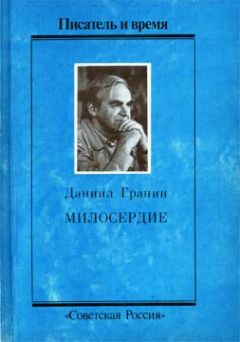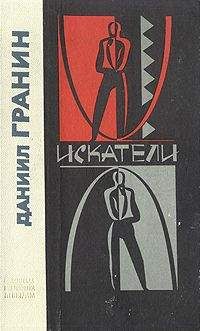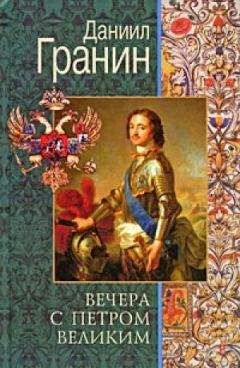Даниил Гранин - Беседы. Очерки
1993
Я чувствую себя чужим
«Конечно, переделать прошлое нельзя, но передумать-то можно». Эти слова героя повести «Наш комбат» — сокровенная мысль самого Даниила Гранина, замечательного писателя, вызволяющего замурованную правду из ледяной толщи блокадной зимы, из-под глыб запутанной истории, призывающего нас научиться прощать — и друг друга, и своих врагов.
Кто виноват: человек или эпоха?— Даниил Александрович, один из героев Вашего последнего романа «Вечера с Петром Великим» говорит, что всегда виноват человек, а не эпоха. Это и Ваше мнение? Большая часть Вашей жизни попала на сложные и жестокие годы. Первые рассказы опубликованы в журнале «Резец» в 1937 году, который стал символом ужаса. Какими были Ваши отношения с этим временем? Как желание писать сочеталось с тотальной цензурой, не допускавшей к публикации ни одного слова правды? Или же Вы искренне смотрели на происходящее так, как того требовала власть?
— Никаких больших проблем тогда у меня не было. Я просто хотел писать. Что писать — все равно. Просто писать. Я столкнулся с эпохой лоб в лоб, когда у меня в 1934-м отца выслали в Сибирь. Все это как-то сочеталось с хорошим детством, с хорошей школой. Очень хотелось вступить в комсомол, а в комсомол меня не принимали как сына сначала высланного, потом — лишенца. С большим трудом добился, чтобы приняли в кандидаты в комсомол. Зачем это надо было, сейчас уже не понять.
Несмотря на то, что нам с мамой приходилось трудно, не хватало денег, я жил с восторгом. Пятилетки, днепрогэсы — это все воспринималось в масштабе один к одному. Без поправок. Я поступил в Электротехнический институт. Потом там начались какие-то военные кафедры, сверхсекретные специальности, и меня исключили. Мне удалось перейти в Политехнический, где не было таких секретов. Еще одна пощечина. Но это тоже не воспринималось как катастрофа, не озлобило — наверное, так надо, таков порядок жизни. Мои личные огорчения, несчастья, неудачи не имели отношения к жизни страны.
Это было неумное, глупое ощущение. Потому что в нашем классе у одного за другим происходили такие же события. Мой друг Толя Лютер. Его отец был латышским большевиком. Отца арестовали, а потом и Толю с братом выслали из Ленинграда. Вообще люди один за другим просто исчезали, в том числе ребята из нашего класса. Это воспринималось болезненно, тяжело, но опять же не вызывало никаких размышлений: что за порядок такой? Что за государство?
— А Вы не можете сегодня, задним числом, объяснить этот психологический механизм?
— Я думал. Я не могу полностью объяснить этот механизм. Самая сложная проблема для историка — уметь судить людей по законам того времени. А законы того времени (я имею в виду не юридические законы, а нравственные) восстановить чрезвычайно трудно. Как я это все-таки объясняю. Первое: была идея — мы строим социализм-коммунизм, мы первые, мы — единственное в мире государство, которое строит справедливую систему, при ней все люди будут друг другу родные, все будут счастливы… Это была та идея, во имя которой мы терпели коммунальные квартиры, карточки, ордера, очереди, весь этот ужасный быт, который был не менее страшен, может быть, чем в лагерях. Второе: человек практически не мог противостоять пропаганде. Сажали миллионы людей, но все эти миллионы были преданы советской власти. За ничтожным исключением. Я знакомился с биографиями людей чрезвычайно независимого мышления, вроде Любищева, — дневники, переписка довоенного времени. Там были его размышления по поводу Демокрита, по поводу ошибочности каких-то исторических шагов России в царские еще времена, но совсем не было явных или даже скрытых сомнений в правильности той системы, в которой он жил.
— Но была ведь Лидия Корнеевна Чуковская. Она еще в 1930-е годы написала повесть «Софья Петровна». С абсолютно ясным пониманием происходящего.
— Не знаю. Я всегда сомневался в этих вещах.
— Вы сомневаетесь в том, что повесть была написана в 1930-е годы?
— Я не имею права так говорить, не могу. Но я не знаю критически настроенных людей из моего окружения, за исключением тех, кто эмигрировал и окунулся совершенно в другую идеологию и состояние души, или же тех, кто в сознательном возрасте пережил события 20-х годов, когда все в обществе было полно возмущения. А дальше — нет. Никто из тех, кого я знаю, не мог противостоять этому идеологическому прессингу. Люди типа Федора Раскольникова, который написал письмо Сталину, — исключение.
— Тогда получается, что фраза Вашего героя — это некое романтическое благодушие. И не прав Маркс, который, кажется, говорил, что человек отвечает не только перед своими убеждениями, но и за свои убеждения.
— Виноват человек. Хотя наш человек был поставлен в особые, в тяжелейшие условия: он рождался внутри этого общества и жил в нем без всякой возможности что-либо сопоставить и сравнить. Люди, которые жили до революции, имели возможность оценить происходящее, а мы… Мы все не сумели понять того, что происходило. Для меня понимание началось с войны.
Зачем я пошел на войну— В июле 1941-го Вы ушли ополченцем на фронт.
— Да. Но вот тоже… Зачем я пошел на войну? Зачем? У меня была броня, я хлопотал, чтобы сняли эту броню. Это был порыв, пафос. Но уже года через полтора-два я сам себе удивлялся.
Приехал получать танки в Челябинск. А в Челябинске был тогда мой Кировский завод. Ребята, которые начинали вместе со мной, стали уже старшими инженерами, заведующими отделов. И я видел, как много они сделали за это время для фронта. А я что? Вшей кормил, валялся в грязи в окопах. То есть, даже рассуждая рационально, это был неправильный поступок.
— И на что Вам война открыла глаза?
— Война с первых же дней потрясла меня и открыла, что все было ложью. Мы пошли на войну с учебными винтовками, у которых были просверлены стволы. Нам вручили только бутылки с противотанковой жидкостью. Все разговоры о Суворове, об упреждающем ударе… О чем говорить? Мы совершенно не были готовы к войне. Шли с голыми руками. Неделю упражнялись в садике у клуба Газа, как ползать по-пластунски, потом нас погрузили в эшелон, и мы уехали.
— За счет чего же тогда выиграли войну, если и технической готовности не было, и энтузиазм угас?
— Когда обнаружилась вся ложь, глупость, вся бездарность командиров, когда выяснилось, что наша кадровая армия воевать не умеет — они отступали сквозь нас и отдавали нам свои винтовки, — вступил в действие другой фактор: мы видели, что немцы оккупировали нашу страну. Вынести это было невозможно. И потом мы понимали, что с нашей стороны война была справедливой. Уже к зиме 1941-го появилось ощущение, что немцам с нами не совладать. Почему? Потому что с их стороны война была несправедливой. Хотя и у нас к тому времени война уже стала грязной.
— Разве война по определению не грязное дело?
— Нет, сначала война была чистой, романтической. Но со временем мы стали тоже жестокими, беспощадными. Расстреливали немцев, которые попадали в плен. А когда начался голод…
— В армии был голод?
— Конечно. Опухали, жрали траву. Специально пили, пили, чтобы появилась отечность и отправили в госпиталь.
— В этих условиях оставались какие-то нравственные нормы или жизнь двигали другие силы? Сегодня одни делают акцент на людоедстве, другие на героизме…
— Нет, нет, оставались и нормы, и ценности. У нас с Адамовичем из «Блокадной книги» вычеркнули страницы про людоедство, но мы даже не очень их и отстаивали. Не это решало. Людоедство было ведь и в 1919 году. Питирим Сорокин в книге «Долгий путь» описывает случаи людоедства и мародерства в Петербурге. Но нравственные критерии были — и довольно четкие.
На фронте мы ясно сознавали, что за нами — Ленинград. А Ленинград — не просто город. Когда каждое утро ровно в девять над нами в сторону Ленинграда аккуратно летят самолеты, мы оборачиваемся и видим, что там начинаются пожары. Если бы не это, мы вряд ли бы выстояли.
Физики занимаются будущим— Даниил Александрович, кажется, Вы стали по-настоящему знамениты после романа «Иду на грозу». Впрочем, возможно, это восприятие именно моего поколения, а для людей более старших это был роман «Искатели».
— Да, бестселлером был роман «Искатели».
— Так или иначе, это было уже время общественного подъема и возрождения надежд, романтическое время. Как Вы сейчас относитесь к тому состоянию?
— Все, что я тогда писал, было связано с успехами науки. Совсем недавно физики изобрели атомную бомбу, существовали мощные научные коллективы. Мной двигала надежда, что наука, физика преобразят общество. Кроме того, физики пользовались гражданскими правами в большей мере, чем все остальные. Им многое позволяли, они пригрели у себя антилысенковцев. Я истово верил, что они не позволят вернуть прежние порядки. Мне казалось, что люди, которые занимаются физикой, занимаются будущим. Человек, работающий в лаборатории, живет будущим, то есть тем, чего еще нет. Поэзия творческой научной работы была моей идеей. Тем более что в нашей, да и в мировой литературе этой темы почти не было. Я чувствовал себя пионером. Я ведь пришел в литературу со стороны. У меня не было литературного образования, литературных кружков, института, никаких связей и знакомств. Я себя долго чувствовал белой вороной. Все вокруг какие-то незнакомые слова говорят. Долго не мог понять, чем фабула отличается от сюжета. Я был там чужим.