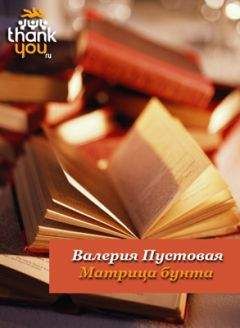Великая легкость. Очерки культурного движения - Пустовая Валерия Ефимовна
Немногие писатели, осознавшие неглубокую философскую подоплеку этой игры, отказываются от задачи вживания в историю, от попытки присвоить закрытую, чужую жизнь. Наиболее продвинутый современный роман об истории ограничивает себя рамками наличного опыта, вводит осознание скудных возможностей авторского воображения как прием. «Хоровод воды» Сергея Кузнецова, «Живые картины» Полины Барсковой – об этой невозможности вполне представить, как сказано в романе Кузнецова нашими современниками о родителях, «что случилось с ними тогда».
«Пишут: «роман», а в уме держат «эпопею», а на выходе получают как раз «повесть» или близкую ей «хронику»», – забавлялся Агеев внутренним измельчением жанра. Расхождение задач исторического романа с вопросами истории, расхождение интересов автора с задачами эпоса, расползание формы и сути, расслоение крупной формы продолжается, и каждая новая большая книга, перерастающая объемом смысл, приближает переворот: рождение «связи всего» из духа момента, аккумуляции большой истории в малом жанре.
1) Узнавание. Мистическая сага
(Алексей Варламов «Мысленный волк» – Борис Минаев «Батист»)
Наиболее распространенный тренд ярче всех проиллюстрировал Юрий Арабов. Его роман «Столкновение с бабочкой» читается как манифест исторической прозы, работающей благодаря узнаванию. На презентации книжного издания в рамках ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction он так и сказал: новый роман – выражение его гражданской позиции. Хотел, можно предположить, о Путине и Навальном высказаться, да зачем-то опять написал о Молохе и Тельце.
«Столкновение с бабочкой» – история альтернативная, политическая программа, выраженная средствами ретроутопии. В лице Николая Второго, не отрекшегося от престола, Арабов предложил современности тип нового лидера, который сам настолько синхронизировался с эпохой, что никакой революции не обогнать. Царь-гражданин, переехавший с Дворцовой на Гороховую, оставивший Ленина набирать брюшко на госслужбе и постепенно укоренивший в империи компактную, европейскую стилистику власти, вступает в союз не только с политическими врагами – с самой историей. И роман о нем получился до того компактным, недвусмысленным, что его хочется немедленно применить к современной России. Исторические фигуры превращаются в аллегории, которые вроде ясно, каким смыслом наполнить. Кажется, что разберешься с Ульяновым, Николаем и кайзером – и жизнь твоя переменится к лучшему.
Этот эффект опознания прошлого как моделированного настоящего поэт Мария Степанова считает ключом к сегодняшней России, где ничто не бывает вполне собой, не живет теперешним моментом, а значит, и не сдвигается, принимая остывшие, жесткие формы прошлого. Надо сказать, стилистически ее эссе [15] само подчиняется общей логике: оставляет ощущение той самой «завороженности прошлым» (Липовецкий), с которой пытается справиться автор. Прошлое и здесь остается энергетическим источником, иррациональной приманкой. Наверное, потому, что для настоящего, для неповторимого надо еще наработать такой же богатый и глубокий слой образов, чувств, ассоциаций. Степанова в эссе рекомендует евангельски «радоваться», Дмитрий Данилов в последнем романе пробует «сидеть и смотреть», поп-журналистка Элизабет Гилберт в давнем хите наказывает «есть, молиться, любить» – пока эти разноприродные в литературном отношении опыты работы с настоящим не сложились в направление, способное конкурировать с валом исторических реконструкций и имитаций.
«Прошлое – магия», – предупреждает Степанова, а Липовецкий допугивает, цитируя Александра Эткинда [16], «магическим историзмом»: «Эткинд диагностирует мейнстриму меланхолию, понимаемую <…> как “неспособность отделить себя от утраченного; <…> когда в настоящем нет выбора, историческое прошлое превращается во всеобъемлющий нарратив, который больше затемняет настоящее, чем объясняет его”». Пытаясь рационализировать «завороженность прошлым», эти авторы апеллируют к замещенной исторической памяти: сегодняшние мы – подселенцы в «квартиры бывших людей» (Степанова), неправомочные преемники «жертв советского террора» (Липовецкий). Убедительное единомыслие это, впрочем, трудно притянуть за уши к рассматриваемым нами романам – «исторический опыт» здесь и впрямь, по выражению Липовецкого, «кошмарное дежавю», но возвращает оно к утраченному еще до заступления советской власти.
То, что Арабов, Варламов, Минаев так и этак тасуют одни и те же карты – царская семья, убийство Распутина, Первая мировая, крах старой империи, революционное лихо, – объясняется не политикой, а художественной эргономикой. Проза отметила юбилей четырнадцатого года вслед за публицистикой: напророчествовала, оглядываясь. Романы, построенные на узнавании, оставляют ощущение безграничной открытости, заложенной, однако, не в конструкции, а, заведомо, в уме читателя. Пока перед глазами публики мелькают новости, воображение прокручивает роман, что позволяет и журналистам, и писателям уклониться от оперативного и перспективного анализа, заменив его набором век назад оправдавшихся чувствований. Романы сгущают «тень неотменимости, приговором висящую над сегодняшним днем» (Степанова).
Отсюда намеренная нечленораздельность художественного мира, служащая усилению мистического, профетического – обреченного жизнеощущения начала века. Авторов трудно поймать на какой-никакой политике – восторг и ужас в отношении наступающего будущего, а здесь это значит: нашего прошлого, – смешаны в нераспознаваемых пропорциях.
Тревожит готовность к войне, выраженная хозяйкой гостиницы – олицетворением старой Европы, – но вдохновляет «глубокая любовь к неизвестности», осознанная ее молодым постояльцем, едва не переплывшим Ла-Манш (Минаев). Роман Минаева прошит неизвестностью – пунктирным, поверх всех событий пущенным швом. Одна из главок романа звучит прямодушно, как басня: нас учит любви к неизвестности – к «будь, что будет» – барышня, лишающая себя искусственно восстановленного девства. Роман распростирается к будущему, хотя знает, что в обетованном завтра приближается метка «Сталин». История освящена неотвратимостью свершенного, и готовность к неизвестности – это готовность «жить, жить, жить», несмотря ни на какие повороты винта. Именно что «радоваться», как предписывает Мария Степанова. Эту готовность, однако, в мире романа аннигилирует сожаление о «домашнем мире» – сметаемом неизвестностью приюте истинной радости. Плач о «замкнутом, но не душном» мире семьи, где можно было жить, «не замечая времени», – иными словами: поперек будущего, наперекор той самой неизвестности, которую автор сделал девизом истории. Историческое и домашнее не уживаются, их конфликт – сюжет и романа Минаева, и эссе Степановой, но если в эссе возможен умозрительный выбор в пользу «нерассуждающей домашности», то в романе, заточенном на приятие неотвратимого, писателю приходится жертвовать батистом в пользу сукна, миром для войны, домом для истории – фаталистское влечение к неотвратимому оправдывает свершенное в прошлом и разрешает не трепыхаясь дожидаться своей участи в настоящем.
Менее отчетливо выражена антиномия в романе Варламова. На месте рассудочно понимаемой «неизвестности» тут артистические категории «бега» и «танца»: недужит «бегом» главная героиня Уля, осаленная в детстве нечистой силой, исполняет духовный «танец» молящийся за Россию Распутин. Сдвиги времени уравновешены его подмораживанием, записанным в романе на счет фантастических агентов будущего, тоже, поди ж ты, готовящихся к войне – только уже Второй мировой: «Так устроена история. И мы должны начать готовиться к этой войне уже сейчас, чтобы не проиграть снова. <…> Нам нужна Россия с другим народом, который будет иначе организован, мобилизован, воспитан. Народом, который не посмеет бунтовать против своей власти, когда эта власть поведет войну. <…> А никакой мировой революции нет и не будет. Революция – это сказка для дураков и блаженных романтиков». Можно подумать, что Варламов вступает в заочную полемику с Минаевым: трактует историю как жертву неизвестностью – во имя выживания общероссийского дома. Но это, как говаривал Кантор, всего лишь реплика персонажа – одного из сеятелей революционного брожения. Советская Россия, таким образом, предстает и антитезой, и итогом духовной смуты в России царской.