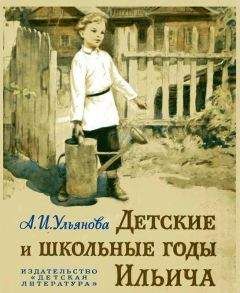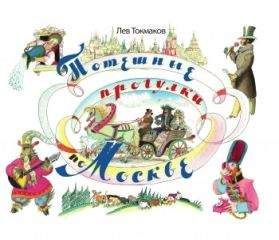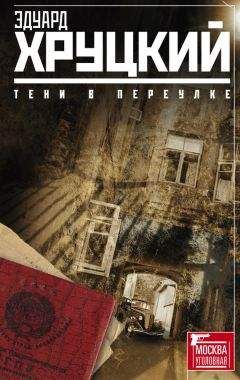А Сабов - Снова на берегах Невы
- И все же, раз вы все так тосковали по родине, почему не вернулись раньше?
- Но как же мы могли вернуться при Сталине? Да, конечно, мы боялись. Мы знали о печальной судьбе некоторых наших возвращенцев. В 1933 году вернулся на родину мой хороший знакомый, литературовед князь Дмитрий Святополк-Мирский, во Франции еще вступивший в коммунистическую партию. В 1937 году он погиб в лагере на Колыме... Знали и о судьбе Марины Цветаевой, с которой я виделась в Париже незадолго до ее отъезда на родину. Потом, позже, невозможно было вернуться уже и по другим причинам: мы оказались совершенно безо всяких средств.
"Берег Сены, берег Леты... "Мы последние поэты".
В начале века в Париже пустил себе пулю в сердце молодой русский поэт Владимир Поляков. В только что процитированном двустишии вторая строчка закавыченная - принадлежит ему.
Да, еще один порыв ветра, и - кто знает? - возможно, сломало бы и ее?
Ей было двадцать два, когда на родине произошла революция. Двадцать семь, когда она уехала в короткое свадебное путешествие, обернувшееся эмиграцией длиной в шестьдесят пять лет. Девяносто один, когда родная земля позвала ее назад, в город юности, забывший, может быть, ее бант, но не стихи.
Ленинградский горисполком предоставил Ирине Владимировне квартиру на Невском проспекте, горздрав и "Красный крест" на первых порах взяли на себя хлопоты по уходу за ней, Союз писателей принял ее в свои ряды, журнал и издательство заключили с ней договоры на издание ее мемуаров...
- У меня такое чувство, что я получаю и получила слишком много, незаслуженно много. Как будто мне выпала доля получить за всех тех, кто недополучил, кто не дожил до встречи с родиной, особенно если вспомнить о судьбах моих современников... Изо всех знакомых мне русских литераторов за рубежом можно назвать всего двух-трех счастливцев, кто много печатался и не терял читателя. Марк Алданов, например, благодаря тому, что его исторические романы переводились на многие языки. Большинство же писателей глохли в вакууме, и судьбы тех, кто выбирал молчание, и тех, кто писал неумеренно много, до странности похожи. Константин Бальмонт - в России трамваи останавливались, когда он шел по улице! - начисто лишился во Франции читателей и страшно от этого страдал. Про него пустили злую шутку, будто бы его машинка сама печатала стихи. Он, знавший в России многотысячные аудитории поклонников, здесь готов был вам ночь напролет - вам одной! - читать свои стихи, лишь бы вы слушали. Перед смертью он сошел с ума... А Игорь Северянин! Он по ночам читал свои стихи звездам. Я мало знала Сашу Черного, но и его смерть меня поразила: он умер нелепо, вдруг, испугавшись пожара,- разрыв сердца...
- Вы встречались с Буниным в Париже?
- Да, довольно часто - Бунины бывали у нас, мы у них. Знаете ли, несмотря на свою Нобелевскую премию, он так и остался в своей жалкой, паршивенькой квартирке...
- Это на улице Оффенбаха?
- Да, да. Ничего, даже обстановки не переменил!
- Но он ведь помогал многим, Куприну послал деньги, другим писателям...
- О да, он был очень благородный. За это нельзя его было не любить. Но иногда бывал и странным, желчным, мог рассказать о человеке вещи несправедливые, нелестные. И глубоко страдал, когда подобным же образом говорилось о нем. Ведь когда он принял предложение посетить советское посольство в Париже, эмиграция буквально затравила его: боялись, что он уедет в Россию, как уже уехали Цветаева, Толстой, Куприн. Он в душе был готов к отъезду, я глубоко в этом убеждена...
Иной читатель, возможно, про себя заметит - все ли равнения да сравнения тут правомерны? Да, но только равняли-то мы не имена, а, скорее, времена и судьбы. Ведь после тех, кто назван выше, добрых полвека к нам не возвращались... Совсем. Никто. И вот, грустно сказать, первая ласточка... Сорваться - в таком возрасте! - пусть и с неуютного, но насиженного гнезда, выбрать безвестность, на что не отваживались и более молодые, поверить, что еще нужна родине и собственным литературным даром, и, главное, возможностью приблизить к ней целый пласт оторвавшейся отечественной культуры,- это ли не мужество? И разве нам самим не нужно оно в равной, а может, и большей мере? Разве рука, которую через столько десятилетий город на Неве протянул своей когда-то потерянной дочери, могла быть не великодушной? И разве униженной просительницей вернулась она, задолго до будущей встречи приготовившая - на память о ней - свидетельства прожитой жизни и выношенной мечты? Разве возвращение Ирины Владимировны Одоевцевой на родину не символично - как раз надеждой слияния в едином лоне нашей многонациональной культуры всех ее сил и имен? Конечно, жизнь прожить - не бантом взмахнуть. Ветер "подул", ветер "унес" - все было. И все же не смог он, ветер, "сломать" ту, кому великодушно и щедро родина подставила плечо.
Ирине Владимировне Одоевцевой судьба подарила это счастье - держать в руках первые советские издания своих книг. А мы, читатели, вознаграждены стократ.
А. САБОВ