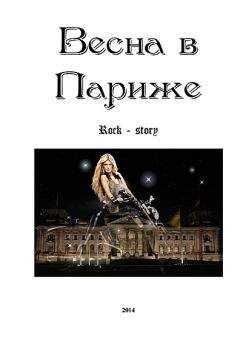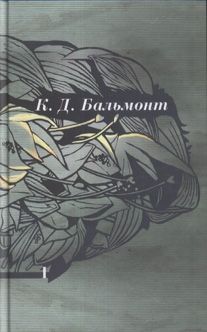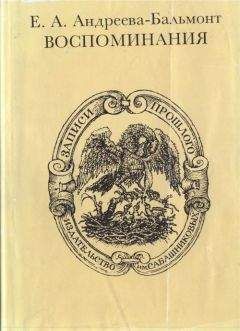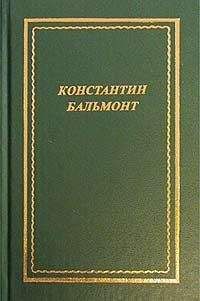Евгений Аничков - К. Д. Бальмонт
Сплетение воедино всех этих особенностей — вот что характеризует своеобразную музу Бальмонта. Я говорю: своеобразную, потому что не в подражании дело. В приведенном стихотворении, прежде всего, столько звучных аллитераций. Это уже характерно бальмонтовское открытие. Он возлюбил аллитерации и вообще музыкальность самого словоупотребления: внутренние рифмы, звучные слова.
Настал праздник поэзии, и нарушена была святая схима. Первое главное, основное назначение, какое без всяких оговорок поставил себе в заслугу и в обязанность Бальмонт, это — радость искусства. Не только не хочет он оправдывать мастерство поэта какими-нибудь заслугами и задачами, в той или иной мере заходящими за пределы мастерства, но прямо и категорично заявляет, что замкнулся в поэзии:
В башне, где мои земные
Дни окончиться должны,
Окна радостно-цветные
Без конца внушают сны.
Эти стекла расписные
Мне самой судьбой даны.
Тут не только брошен жребий, но принят вызов. Не для жизни Поэт, и что ему жизнь? Между нею и поэтом цветные стекла его заколдованной башни, и он весь погружен в сны и мечтанья:
Сновиденья нагретых и душных и влажных теплиц.
Все для него раскрашено красотой и условностью, вымыслом, ложью, всем, чем хотите, только не потребностями действительности и правды.
Легко было видеть в Бальмонте эстета и романтика, отвернувшегося от великой трагедии его родины. Но в том-то и дело, что это не так и за этим откровенным и прямым признанием самостоятельности и независимости искусства в душе Бальмонта росло и развивалось самосознание поэтического подвига «нужного и важного». И зрела эта уверенность, которую подтвердит очень скоро сама жизнь вполне объективно и наглядно, как тернист путь поэтического подвига, совершенно в той же мере, что и путь подвига общественного, когда велики предъявляемые к своему мастерству требования. Знал уже, что говорил, Бальмонт, когда в предисловии к «Горящим зданиям» написал свой девиз: «Нужно быть беспощадным к себе. Только тогда можно достичь что-нибудь».
Самосознание поэта — этот центральный мотив «Горящих зданий» — выражен в тесной связи с прославлением этой трудной и традиционной, вполне установленной поэтической формы: сонет, что влекла Бальмонта смолоду.
Люблю тебя, законченность сонета,
С надменною твоею красотой.
Как правильную четкость силуэта
Красавицы изысканно-простой.
В форме сонета прощается навсегда поэт с представителями рассудочности, отвергшей все таинственное, что содержится в чарованье освобожденной от служебности и определенных принципов поэзии. Теперь он саркастически называет «проповедниками» эту честно думающую русскую интеллигенцию, ограничившую себя императивами общественности и простоты, превращенными незыблемой традицией в символ веры. Бальмонт говорит им:
Жрецы элементарных теорем,
Проповедей вы ждете от поэта?
Я проповедь скажу на благо света, —
Не скукой слов, давно известных всем,
А звучной полногласностью сонета,
Не найденной пока еще никем!
Это заявление ведет нас непосредственно к новой поэтике Бальмонта:
Пять чувств — дорога лжи. Но есть восторг экстаза,
Когда нам истина сама собой видна.
Тогда таинственно для дремлющего глаза
Горит узорами ночная глубина.
Бездонность сумрака, неразрешенность сна,
Из угля черного — рождение алмаза.
Нам правда каждый раз — сверхчувственно дана,
Когда мы вступим в луч священного экстаза.
В душе у каждого есть мир незримых чар,
Как в каждом дереве зеленом есть пожар,
Еще не вспыхнувший, но ждущий пробужденья.
Коснись до тайных сил, шатни тот мир, что спит,
И, дрогнув радостно от счастья возрожденья,
Тебя нежданное так ярко ослепит.
Итак, Бальмонт ополчается против интеллигентов-проповедников, а сам-то? Разве не обещает он сказать «проповедь на благо света»? Не в отрицании проповеди, значит, было дело, а в проповеди «нового» и «по-новому».
Приведенный сонет, так характерно озаглавленный «Путь правды», целая энциклопедия «новой проповеди». Как только мы сделаем шаг в сторону понимания этой «новой проповеди», так сейчас обнаружится, что разнится она от прежней самой сущностью лежащего в ее основе миропонимания, а новизна формы, стремление к ней, «росписные стекла» мастерской художника — не что иное, как новое орудие, ставшее необходимым для проведения в жизнь этого нового миросозерцания. Оно ново самой своей гносеологией. Да, гносеологией; этот педантический термин, зазывающий в философские семинарии, где систематично и тяжеловесно проходятся основы философии, как науки о принципах, просто и точно определяет сущность загоревшегося пожарища в сердцах создателей новой поэзии и, в частности, в душе Бальмонта. О гносеологии в 90-х годах уже заспорили в кружках для самообразования. В редакциях журналов. Только что вышли тогда «Проблемы идеализма», и русская передовая молодежь, воспитанная на эпигонах «молодой Германии», на фейербаховском «отрицании философии», на «научном миросозерцании» естествоиспытателей, на эволюционизме Спенсера и материалистической системе Карла Маркса, — не говорю о «субъективном методе» Н. К. Михайловского, так как его влияние уже на ущербе к концу 90-х годов, — совершала свое паломничество «назад к Канту», и тут сильно запоздав, переступая из следа в след за немецкой семинарско-университетской мудростью. Авторы «Проблем идеализма» верили, что говорят новое слово, и уделили в своем сборнике местечко даже для Ницше. Стало вновь заползать в умы уже столько бед и тревог наделавшее на Руси полвека тому назад гегельянство. «Назад к Канту» и «назад к Гегелю» — лозунги, оказавшиеся для Бальмонта, однако, неприемлемыми. Они, пожалуй, расчистили путь «новой проповеди». Но гносеология самого Бальмонта — иная, и, если вдуматься, хотя на первых порах ее и воспринимали с грехом пополам совместно с идеализмом, она ему глубоко враждебна.
Слова приведенного сонета: «пять чувств — дорога лжи» — для большинства читателей конца 90-х годов были если и непонятны и неприемлемы, то, во всяком случае, не неожиданны. Рядом с «Проблемами идеализма» шло на Русь еще другое, и шло именно через художество. Модный тогда романист Пшибышевский пустил бродить по свету это выражение, что существует путь познания, где дважды два вовсе не четыре, а, может быть, пять или пятьдесят пять; вот этот тернистый путь познания и есть путь познания художественного. Не Пшибышевскому принадлежит тут, разумеется, почин; я упомянул о нем только ради хронологии. Давно, еще Эдгар По читал в Америке лекции, где доказывал, что существует «убеждение без доказательств»; он строил на этом целый ряд своих очерков и рассказов. Давно также еще Бодлер воспевал и устанавливал символическое соотношение явлений, ответ звуку цветом и т. п. Пробудился вновь, в который уже раз, именно тогда, когда рационализм, казалось, победил и укрепился, заставив ум человеческий преклониться перед несомненностью этого довода: дважды два — четыре! — возник интерес к оккультным знаниям, и старые, запыленные, изъеденные мышами книги, толковавшие о Сведенборге и Мартене, перебрались из кладовых букинистов на их прилавки. А тут месмеризм XVIII века в руках современных психиатров оказался особой, вовсе не столь таинственной областью знания. Символизм и искание экстатических порывов вдохновения, не логика, а причудливые скачки гениальной мысли — все это уже давно в середине XIX века влекло к себе усилия целого ряда поэтов; на исходе романтизма рвутся мысль и воображение проникнуть в тайный и трепетный мир сверхчувственного и неосознанного. Но возрождается рационализм, положительная наука делает чудеса при помощи своих самых что ни на есть рациональных выкладок. Возникает реализм и заполняет собой передовые круги ученого и литературного мира на долгие десятилетия. Но вот опять в самом конце XIX века да в начале XX века возрождается все то, что мучило мозги Эдгара По, Бодлера, Жерара де Нерваля, не говоря уже о Гофмане и Новалисе, их предшественниках; таково происхождение новой гносеологии Бальмонта.
Оттого, хотя заявление Бальмонта, ставшее лозунгом «новых веяний»:
«пяти чувств — дорога лжи, но есть восторг экстаза», производило впечатление возврата к романтизму, и новым романтиком сочли Бальмонта, как мы еще увидим яснее, когда проследим его дальнейшее поэтическое поприще, совсем не романтик Бальмонт. Пока важно, однако, другое: самосознание поэта нашло свое оправдание. По-новому было провозглашено: нужна поэзия.