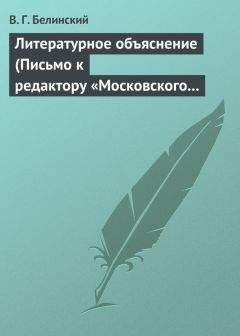Надежда Лухманова - Первая ссора
Но будем еще наблюдать и собирать факты, где отражается печальный дефект самих доктрин. Во «второй», в «третьей» семье муж нежен; он не лукавит; он заботлив — по крайней мере относительно, насколько способен. Вот на что следует обратить внимание. Т. е. через посредство «второй» и «третьей» семьи он восстановляет настоящие черты брака, потерянные дома; и ясно, что ни второй, ни третьей семьи не было бы у него, если бы первая семья сохраняла в себе черты брака, т. е. на тридцатом году совместной жизни она была активна, как и на тридцатой неделе. Вот что потеряно, вот что лежит в основе всего. Муж ли, жена ли от тускнеющего в годах номинализма и фикций брака — иначе как номинально и фиктивно и не существующего у нас — вечно уходят в реальное его существо, «в тайну», «в любовь», «в нежность», «в заботу», «в правду» — где-нибудь на стороне. Тут «сторона» —
За рекой, на горе,
— вовсе не значаща в себе: она в себе не несет никакой силы, прибавим — никакой лжи; первая ложь и всякая сила почила в первой семье, оставленной, — именно в отрицательных ее чертах, быстром в ней исчезновении реального существа брака, при сохранении его скорлупы и имени.
Счастливых семей, т. е. верных подлинно, в сердце, — еще гораздо менее, чем думают. Буквально это есть редчайшие исключения; но они есть, и, присматриваясь там и здесь, сейчас можно узнать такую семью. Это- оазис, заброшенное живое зерно среди мертвой (в сущности) ткани брака: она никуда не спешит, ни к кому не «собирается» и к себе никого не «ждет». В ней есть какой-то свой собственный свет, тепло, поэзия. Часто это бывают молчаливые семьи, т. е. все шумливое или, по крайней мере, все суетливое исключено из них: их члены «копаются» друг около друга, т. е. заняты каждый своим делом, но «около» друг друга, непременно в физическом почти касании. Сбиты в «кучку»; и свет, и теплота здесь бесспорно «животного», т. е. «живого», характера: это даже заметно по неубранности, всегдашнему отсутствию «парадности» в таких «животно-теплых» семьях. Долго и внимательно изучая их психический склад, всегда можно заметить, что — опять в инстинктах ли, догадках или в какой-то теплой атмосфере дыхания, — но у них «религиозность» и «святость» брака продвинута несколько дальше, чем обыкновенно, и несколько вглубь, т. е. хотя чуть-чуть, но у них значение брака отошло от исключительно и строго номиналистического его понимания, продвинулось в глубь самого предмета. Например, у них заметно религиозное чувство детей — религиозное чувство самого рождения. Это сказывается в записочке, извещающей о «прибавлении семейства», в способе приглашения на «крестины», неуловимо — но скажется какой-то торжественностью во всем этом, вовсе отсутствующей в пассивных семьях, где рождение почти также скрывается, оно составляет такую же «неловкость», как и венчание. Мы нашли узел разграничения: пассивные семьи как-то стыдятся реально-«животного;» в браке, активные как-то сорадуются ему и почти выпячивают его наружу. За этим все остальное в тех и других — общее.
Если мы обратим на это «выпячивание» в себе животной стороны внимание, мы наблюдем, что в активных семьях, «животных», есть чувство серьезности, если не религиозности, разлившееся на самый ритм брака, его реальное и длительное существо. Момент венчания — забыт; подробности ухаживания — тоже; ясно, что брак держится самым ритмом своим, тем странным и бесспорно даже для наблюдения заметным «поднятием духа» семьи при всяком, например, новом рождении — пусть это связано с набегающими на лоб морщинами от забот, труда, от страха, что семья уже становится «обременительна», «непосильна» для единственного часто работника. Не забуду окрика на кондуктора одной «чуйки», впавшей в «вагон» конки (в Петербурге). Кондуктор рано дернул конку, когда «чуйка» не успел еще вскочить, и больно зашиб ему почему-то палец: осматривая и пожимая палец, он закричал ему как-то жестоко несносно: «Вы мою семью не будете кормить, когда меня изувечите». Ясно, что боль и даже возможное увечье в самую секунду боли почувствовались как только задержка или помеха ритму семьи, здоровью жены, новым и новым рождениям. Вот «отец-кормилец» — прототип и идеал вообще отца.
Великий дефект решительно всего нашего миросозерцания лежит в расторжении и отнесении на противоположные полюсы кажущегося «идеального» и кажущегося же «животного». Оно стало «общим местом» наших суждений; начавшись религией, овладев философиею (особенно с Декарта, по коему животное есть «автомат механический»), оно подчинило себе и практику будней нашего бытия. Это расторжение не только губит животное в нас, т. е. «живое» и самую «жизнь», изъяв из нее «идеал», «свет», «просвещение», но и обратно: оно внесло безжизненность в наши предполагаемые «идеи», бессочность, бескровность. И даже больше: это ввело подлог в наш «идеальный мир», заменив в нем кровные мысли фикциями, «в которых не было бы ничего земного и грязного», — и нет в них ничего, кроме лукавого обмана и нас, поддающихся на этот обман, обольщаемых его «чистотою». Мы поклоняемся пустоте; в то же время не поклоняемая более жизнь, естественно, сперва мутнеет, потом дегенерирует, «обратно развивается», становясь «рудиментарным привеском» высоких фикций нашего бытия. Но тайный нерв этого расторжения, для коего нет никаких оснований в Библии, которое отвергается великим и потрясающим словом евангелиста: «Слово — плоть бысть и вселися в ны» — этот нерв все-таки лежит в катехизических частях христианства, через внесение в них "????" "?????????" Аристотеля — «творческого разума», с которым они и отождествили существо Божие, изъяв и противопоставив этому существу «плоть», вопреки глаголу «яслей», «Вифлеема», «стад животных», окруживших рождение Спасителя, и поклонившихся Ему «волхвов» «с Востока». Бесспорно, что в существо христианства («во-площается») входит именно просветление пола и полового; что тайна — почему Слово предвечное не сошло на землю «по радуге» или «не слилось» с логическим сознанием какого-нибудь раввина, но избрало «материнские» для этого пути, в их подробностях и частностях, — очевидно, это содержит в себе такое освящение начал «материнства» и «семьи», о коем лишь смутно гадали многодумные «волхвы», не смея надеяться, — и в Вифлеем они притекли «поклониться» исполнению своих дум (см. у Геродота о Халдее и Египте). Вот евангельская часть освящения «брака», в его реальном существе, не только не противоречащая положительному ветхозаветному учению о поле, но и раздвигающая его до небесных черт. Но, мы говорим, «Разум» Аристотеля все это рано вытеснил; и именно вифлеемская часть Евангелия не получила себе катехизиса. Вопреки объявлению «Слово — плоть бысть», мы разорвали «плоть» и «слово» в себе и у себя и отнесли их на противоположные полюсы. Тотчас, как это совершилось, брак свелся к номинализму и семья — к фикции; без света религии в таинственных «завязах» бытия своего человек неудержимо стал загнивать в них, и «европейская» цивилизация, именно и только «европейская», неудержимо расплывается из «пассивного» брака просто в проституцию. Нет огня, нет таинственного и жгучего огня, стягивающего человека в «брак», — это так очевидно, и это очевидно только в Европе, с ее начинающимся «вырождением»! Мы извнутри похолодели, залив внутри себя святой очаг Весты и на месте священных ему жертвоприношений устроив своз нечистот. Вот узел европейской цивилизации, наших философских дефектов и скорбей нашего дня — включительно до «съезда сифилидологов», недавно бывшего, и связь коего с самыми фундаментами нашей цивилизации почему-то никому не пришла на ум. Но где же исцеление от этих скорбей?
В восстановлении «ветхой деньми» мысли брака. Мы отметили, что у девушек есть целомудрие, потому есть уважение к полу и «тяжело-думность» в его ритме. Это уважение, существующее только как инстинкт, т. е. непрочно и эмпирически, возведем к абсолюту — и мы получим целомудрие и вместе живость брака, которые мечтались лишь в немногих случаях и редкими идеалистами человечества. Прольем религию в самый пол; ощущение высокого и чистого, что уже сейчас мы соединяем с религиозными отношениями, внесем это ощущение в его незагрязненности и святости в самый пульс своего бытия, кажущуюся «животную» его часть — и мы высветимся извнутри себя, религия брызнет из крови нашей, в сочных и кровных ее чертах, взамен теперешнего религиозного номинализма и индифферентизма Мысль брака именно в этом: нигде не сказано — «венчание есть таинство», да и само собою разумеется, что никакое «слово-глаголание» не есть таинство, потому что оно «не» таинственно, «не» мистично, потому что оно до глубины постижимо и до дна рационально «Таинством» назван «брак», т. е. самое прохождение жизни брачной, что открывается назавтра после венчания и оканчивается с могилою; «таинственны», нерациональны, «мистичны» расчленения человека в семью, вчерашнего юноши в завтрашнего «отца» и «дитя», вчерашней девушки в «дитя» и «мать». Вот — тайна, вот — непостижимое, и вот — религия. Но, в общем, это ускользает от нас, и, стоя очень серьезно и торжественно в церкви в секунду венчания, мы назавтра после него начинаем