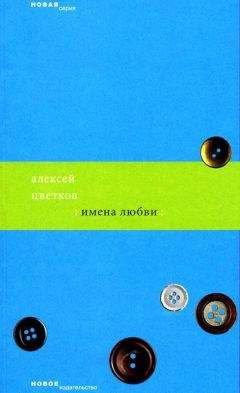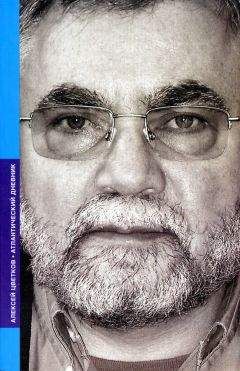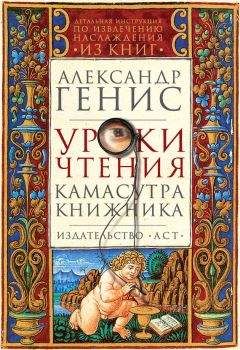Алексей Цветков - Четыре эссе
В этом смысле моя собственная округа с ее лингвистической и расовой неразберихой не совсем типична, хотя именно за это я ее и предпочитаю. Многие недавние иммигранты предпочитают селиться в более или менее компактных этнических анклавах, ближайший из которых неофициально прозван Бухарестом — живут там, однако, не румыны, а бухарские евреи, а раньше селилась сплошная русскоязычная масса, и там же жил Сергей Довлатов, в честь которого теперь назван один из перекрестков. Еще дальше — район Флашинг с собственным Китай-городом, куда больше того, который в Манхэттене, Джексон-Хайтс с «маленьким Египтом» и греческая Астория.
В каком-то смысле Квинс — иллюстрация трамплина в «американскую мечту», термин тут без иронии, поскольку ясно, что все эти люди сменили собственную страну на чужую в расчете поправить свои обстоятельства. Дома вдоль бульвара — этажей до двадцати, многоквартирные, некоторые вполне роскошные, но в основном приличные, хотя есть кварталы и похуже. Чуть дальше от бульвара — в основном частные, с двориками и гаражами, а это роскошь, недоступная даже вполне состоятельным манхэттенцам. Надо полагать, что их владельцы в какой-то мере своей цели достигли.
Впрочем, явно не все, и примеры я вижу ежедневно в супермаркете. Никаких особых деликатесов там не продают, и все же трудно не заметить, как люди выбирают между тем и этим, беря одно и откладывая другое, которое им явно не по средствам. Многие платят в кассе карточками продовольственного пособия, некоторым в последнюю минуту не хватает денег, и привыкшим ко всему кассирам приходится пересчитывать. Некоторые из бизнесов и лавочек в нашей сравнительно благополучной округе закрываются чуть ли через пару недель после открытия — людям явно не хватило начального капитала, а банки в долг не дают. Бессменны только нищие, годами каждый на своем посту.
И это не стандартный кивок в сторону «неприглядной изнанки мира чистогана», жизнь ощутимо становится труднее — последние статистические данные подтверждают не только растущую резкость имущественного расслоения в стране, но и снижение, в абсолютных цифрах, достатка низшего слоя среднего класса, того самого, в котором стремятся закрепиться прибывшие сюда заморские уроженцы. Квинс на всем протяжении своего бульвара — индикатор пульса всей страны, ворота, преодолеть которые удается не всем, и тогда приходится селиться на обочине. Мой собственный дом — такой же индикатор в миниатюре, он не из тех, где прочно обосновываются или, напротив, оказываются в тупике. Поэтому жильцы часто меняются, одни съезжают, другие вселяются, все как в жизни, и поди пойми, кто отправляется в сторону надежды, а кто — в обратном направлении. Только я, с моим антропологическим интересом, ощущаю себя константой, но и это — иллюзия.
Никаких расставаний[4]
На одном из углов перекрестка этих трех улиц работает круглосуточное кафе — стандартной нарезки панини с мозаикой из шпината и сыра, бейгелы с семгой, горы сдобы, витрина с пирожными. Три смены персонала в сутки, но у посетителей тоже свой график. За дальним круглым столиком с утра всегда сидят греки и ведут знойную левантийскую беседу — их постоянно трое, но в разных наборах, и, когда приходит кто-нибудь новый, один из предыдущих вспоминает о чем-то неотложном и хватает со стола свою греческую кепку, такая вот хореография. Старик с номером «New York Times» приходит утром и сидит часами за стойкой у окна во всю стену, ковыряясь в финансовой секции и наблюдая, как дует ветер. А вот зашли трое низкорослых мужчин примерно юго-восточно-азиатского вида, один просто коротышка. Допустим, кхмеры. И хотя кафе совсем пустое, им почему-то нужно именно к той же стойке, где уже сидит газетный читатель. Двое с трудом втискиваются, игнорируя жалобу старика, а маленькому места уже нет, и он садится сзади, с пылким восторгом следя за непрозрачным извне дискурсом товарищей.
Так просыпается Вавилонская башня. Дело даже не в чересполосице языков и рас, она в этой стране не исключение, а норма, но здесь нет доминирующего языка — «титульного», если воспользоваться термином уязвленных и потерявших веру в себя. Английский служит многим лишь для наведения межкультурных мостов и смазки подшипников бизнеса, он исполняет примерно ту же функцию, что в интернете или на научной конференции, хотя ничего научного в нью-йоркском утре нет, оно скорее праздничное.
По-английски говорят, например, в банке, хотя в некоторых районах начинают по умолчанию с испанского. Банковского консультанта, который пытается сагитировать меня на открытие пенсионного плана, зовут Кармайн — на самом деле Кармине — это традиционное сицилийское имя, итальянцы за свои держатся, а вот у местных русских детей почти никогда не называют Вася или Даша. Русские на удивление быстро ассимилируются — подмывает подвести философскую базу, но, скорее всего, причина проста. У русских семейный круг, как правило, уже, чем у итальянцев или греков, любовь к троюродным дядьям утратила былой градус, и от этого меньше тяга к паломничеству на родные пепелища. Такая семья пересекает океан в полном составе, и, когда вымирает поколение бабки и деда, неукротимых читателей «Нового русского слова», исторические корни отмирают.
Одна моя старинная подруга отправилась в Польшу отвоевать права на отцовскую ферму, в Польше коллективизации никогда не было. Не затем отправилась, чтобы перейти в фермерское достоинство и потребовать субсидий от Евросоюза, а ради вот этих исторических корней. Но не тут-то было, родственники затаскали по судам. Наши троюродные дядья любят нас не больше, чем мы их.
Соединенные Штаты — минималистская нация. Помимо флага и конституции, с которыми худо-бедно знакомишься в процессе натурализации, есть две национальные святыни, два патриотических алтаря, и они реально исторические, а не фильмы Эйзенштейна с музыкой Прокофьева.
Это, конечно, революция, которую за пределами страны упорно именуют войной за независимость. Трудно сказать, заговор это или стихийно сложившийся кругосветный обычай, войн за независимость можно насчитать дюжины, а вот революционный элемент для американцев очень важен, потому что это было свержение монархии, которую жители колоний считали деспотической, и установление первой в мире республики с письменной конституцией, на сегодняшний день самой старой.
Но главным историческим эпизодом, настоящим рождением нации из крови и пороха, стала гражданская война, унесшая неслыханные до Первой мировой 600 тысяч жизней. Только что США отметили двухсотлетие Авраама Линкольна, президента, статус которого в национальном сознании затмил даже основателя Джорджа Вашингтона. Из книг, посвященных Линкольну, можно составить библиотеку, и к юбилею вышло еще несколько. В войне Линкольн был поистине беспощаден, полагая, что развал союза штатов будет катастрофой — именно сохранение союза, а не борьба за отмену рабства, было главной пружиной войны.
И, однако, несмотря на всю эту кровь, Линкольн удивительно человечен в сравнении с другими политиками похожего масштаба и биографии, потому что в нем очевидна искренняя боль, но нет ни капли позы. От него осталось множество документов, изученных до любой завитушки почерка, и он никогда не позволяет себе вступать в переговоры с историей, разве что по поводу своей личной ответственности.
У этого сына нищего фермера, юриста без образования, мессии без капли харизмы нет, как мне кажется, реальных параллелей в истории, и американцы не устают восхищаться его меланхолической самобытностью. Если отвлечься от всех личных деталей, его, наверное, можно сравнить с Августом — обоим удалось заново выковать великую страну почти из обломков. Но в Августе не нащупать никакой человеческой боли, а кровь он проливал морями, без угрызений. Он даже стихи писал, а у политиков это обычно симптом острого дефицита совести.
Значат ли что-нибудь Линкольн, Грант, мясорубка у Энтайтэма или «геттисбургское обращение» для посетителей кафе у метро Кью-Гарденс в Квинсе, для греков, кхмеров и, скажем, албанцев? Старик с «New York Times» наверняка что-то обо всем этом слышал, но он тут в меньшинстве, заперт новоприбывшими в угол. Лет двадцать назад известный прозаик и эссеист Гор Видал громогласно возмущался невежеством и безразличием эмигрантского нашествия, размывающего американскую историческую память, а сегодня это возмущение приобретает материальные черты, становясь стеной вдоль южной границы и отрядами ополченцев в приграничной пустыне, отлавливающих нарушителей. Но мне кажется, что лучший памятник Линкольну — это не сотни книг о нем, в том числе из-под пера самого Видала, и уж тем более не стена, а страна, которая через полтора столетия после того, как он ее уберег от распада и заплатил за это собственной жизнью, остается универсальным магнитом, и как бы ни склоняли сегодня ее репутацию, те же люди, которые в одном из опросов именуют США худшей угрозой миру, в другом изъявляют готовность туда эмигрировать.