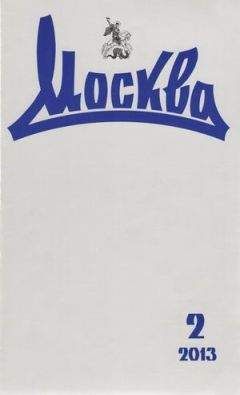Г Тамарченко - Что делать и русский роман шестидесятых годов
И теперь не засмеемся ли мы, если нам попадется в какой-нибудь ученой книге глупость такого сорта: "семейная любовь - чувство узкое". Это совершенно не научная мысль, при научном анализе оказывающаяся бессмысленным сочетанием слов" (XV, 173).
По мысли Чернышевского, сила и глубина личных привязанностей необходимая школа, в которой только и может развиваться настоящая любовь к человечеству. Без опыта любви, без способности к личным привязанностям сама "любовь к человечеству" оказывается не действительной душевной силой, а чем-то умозрительным - пустой абстракцией, которая легко сочетается на практике с деспотизмом, бессердечностью, жестокостью. Не случайно в "Четвертом сне Веры Павловны" картинам социалистического будущего предпослан своеобразный очерк истории "очеловечения" любовных отношений между мужчиной и женщиной, которым в свое время так восхищались Меринг и Луначарский: по мысли Чернышевского, без исторического обогащения и роста душевной культуры, которая наиболее прямо и непосредственно сказывается именно в отношениях полов, невозможна и новая организация общества, свободная от эксплуатации и унижения человека человеком.
Вот почему семейно-психологический сюжет и является сквозным сюжетом романа; это вызвано не только внешними цензурными соображениями, но и существом замысла.
Противоречивость просветительского мировоззрения Чернышевского в его романе сказалась явственнее, чем в публицистике и критике. Некоторые слабые стороны романа связаны с непоследовательностью его концепции человека, с ограниченностью просветительского материализма. Это проявилось, например, в трактовке индивидуального своеобразия характеров, которое, по мысли Чернышевского, проявляется не в труде и не в наслаждении (это сферы, где действуют общие законы человеческой природы), а по преимуществу в способе отдыхать. Однако вопреки собственным рассуждениям Чернышевский показывает в романе характеры своих героев в их постоянном взаимодействии с социально-историческими обстоятельствами, так что "натура" выступает не только как нечто "заданное" природой, но как те природные задатки, которые развиваются или заглушаются в ходе жизни. В этом взаимодействии с условиями времени складывается человеческая индивидуальность, которая, таким образом, и формируется и проявляется отнюдь не только в сфере "отдыха".
Не вполне преодоленное метафизическое представление о "натуре", понятой как продукт природы, а не истории, все же сказывается в художественной ткани романа. Так, например, обязательным условием счастливой и прочной семьи оказывается полное тождество, совпадение индивидуальных склонностей - тех самых, которые проявляются в способе отдыхать. В этих звеньях сюжета возникают элементы иллюстративности и та несколько слащавая сентиментальность, которая снижает художественную убедительность изображения, в особенности в образе Веры Павловны.
К основному семейно-психологическому сюжету в романе "Что делать?" как бы "подключено" несколько более или менее развернутых подчиненных сюжетов. Мы имеем в виду не только историю продажи дочери "пошлому" жениху, по-своему вполне законченную, но составляющую лишь экспозицию и завязку сквозного сюжета. Есть несколько "вставных" сюжетов, написанных в форме, вполне традиционной для романа, - как отступления в прошлое персонажей. Такова, например, своеобразная новелла о Насте Крюковой и докторе Кирсанове - едва ли не начало того длительного резонанса, который вызвало некрасовское стихотворение "Когда из мрака заблужденья..." в русской повествовательной прозе.
Главка "Особенный человек" тоже включает в себя самостоятельный "вставной" сюжет - историю духовного формирования Рахметова как профессионального революционера. Это общеизвестно. Тема революционного подполья, конспирации - искусства борьбы с политической полицией, опасности полицейских репрессий и т. п. входит в сюжет с момента его кульминации.
Пока еще не отмечалось, однако, что эта тема, войдя в роман вместе с Рахметовым, получает и дальнейшее сюжетное развитие, становясь "потайным", "эзоповским" сюжетом "Что делать?". Возникнув в третьей главе, эта "подводная" линия сюжета уже не исчезает до финала. В четвертой и пятой главах одновременно и параллельно со спадом и развязкой "открытого" семейно-психологического сюжета идет подспудное, прочерченное лишь пунктиром, подтекстовое течение действия, связанное не только с Рахметовым (сюжетная функция которого, кстати сказать, вовсе не сводится к простому сообщению о мнимом самоубийстве Лопухова), но и с судьбой Лопухова-Бьюмонта, с трудностями существования мастерских Веры Павловны, с общей атмосферой надвигающегося революционного кризиса.
Эти звенья "потайного" сюжета (в отличие от вставного рассказа о прежней жизни Рахметова) совершенно свободны от какой бы то ни было иллюстративности. Это интереснейшие творческие поиски и находки романиста, откровенно рассчитанные на активное сотворчество читателя.
3
Кульминация "открытого" сюжета в романе "Что делать?" является одновременно завязкой его "эзоповского", потайного сюжета. Смысл этой завязки - в решении Лопухова перейти на нелегальное положение, может быть, существенно ускоренном ситуацией "любовного треугольника".
В одной из бесед с "проницательным читателем" Чернышевский утверждает, что "не Рахметов выведен для того, чтобы вести разговор (с Верой Павловной, - Г. Т.), а разговор сообщен тебе для того, и единственно для того, чтобы побольше познакомить тебя с Рахметовым". И все же не совсем правы те исследователи, которые видят весь смысл этого разговора в том, чтобы "еще ближе познакомить читателя с Рахметовым", {Г. Верховский. О романе Н. Г. Чернышевского "Что делать?". Ярославль, 1959, стр. 182.} "чтобы полнее раскрыть характер Рахметова". {М. Т. Пинаев. Комментарий к роману Н. Г. Чернышевского "Что делать?". М., 1963, стр. 180.} Они тем более неправы, когда находят, что в этом диалоге Чернышевский "освободился на время от необходимости прибегать к иносказаниям и намекам". {Там же.} Наоборот, именно с этого момента необходимость в "иносказаниях и намеках" становится постоянной. И более того - намеки и иносказания становятся теперь приемами сюжетостроения.
Чтобы убедиться в завязочном значении этого эпизода, присмотримся внимательнее к диалогу Рахметова и Веры Павловны:
"... - Его поручение состоит в следующем: он, уходя, чтобы "сойти со сцены"...
- Боже мой, что он сделал! Как же вы могли не удержать его?
- Вникните в это выражение: "сойти со сцены" и не осуждайте меня преждевременно. Он употребил это выражение в записке, полученной вами, не так ли? и мы будем употреблять именно его, потому что оно очень верно и удачно выбрано.
В глазах Веры Павловны стало выражаться недоумение; ей все яснее думалось: "я не знаю, что это? что же мне думать?"
- Итак, уходя, чтобы, по очень верному его выражению, "сойти со сцены", он оставил мне записку к вам..." (217).
Слова "сойти со сцены" каждый раз берутся в кавычки. Рахметов настойчиво призывает Веру Павловну и читателя вникнуть в их смысл. О содержании записки можно уже догадаться. Рахметов предупреждает: "Утешение должно заключаться в самом содержании записки". Он не дает записки в руки Вере Павловне, а после прочтения немедленно сжигает: "По чрезвычайной важности ее содержания, характер которого мы определили, она _не должна остаться ни в чьих руках_". {Курсив в цитатах из романа "Что делать?" здесь и далее мой, - Г. Т.} Другую записку Вера Павловна получает на память: "Она не _документ_" (224).
Все это - первые уроки конспирации, которые Рахметов дает Вере Павловне, а Чернышевский - не "проницательному читателю" (ему не следует понимать ни содержания записки, ни истинной цели всех предосторожностей с этим "документом"), а читателю-другу, способному схватывать такого рода намеки.
Выражение "сойти со сцены" означает в этом контексте решимость Лопухова стать "невидимым" как для политической полиции, так и для всех на свете "проницательных читателей". Недаром же Чернышевский говорит об "особенных" людях: "Тебе ни одного такого человека не видать; твои глаза, проницательный читатель, не так устроены, чтобы видеть таких людей; для тебя они невидимы; их видят только честные и смелые глаза" (214).
Даже от людей своего круга вся операция тщательно засекречена, и ради этого Рахметов на целый день оставляет Веру Павловну в неведении и душевных терзаниях: "Надобно было, чтобы другие видели, в каком вы расстройстве, чтобы известие о вашем расстройстве разнеслось для достоверности события, вас расстроившего Теперь три источника достоверности события: Маша, Мерцалова, Рахель. Мерцалова особенно важный источник - ведь это уж на всех ваших знакомых. Я был очень рад вашей мысли послать за нею" (221).
Конспирация на то и конспирация, чтобы _никто_, кроме тех, кто необходим в _данном_ деле, не знал ничего лишнего. Разумеется, такая степень секретности нужна была не только для того, чтобы Вера Павловна могла без опасений вступить в церковный брак с Кирсановым. Все эти "уроки" конспирации имеют смысл лишь при том условии, что мнимое самоубийство Лопухова имеет своей _главной_ задачей его переход на нелегальное положение. По этой же причине никто из многочисленных знакомых и друзей Лопухова, при всей своей безупречной порядочности, не мог бы заменить Рахметова в этом деле. Если бы задача "самоубийства" сводилась к легализации отношений Веры Павловны с Кирсановым, роль Рахметова мог бы выполнить едва ли не любой из их друзей и единомышленников, лишь бы он не был болтлив. Да Рахметов в подобном случае и не взялся бы за такое "поручение": ведь он делает исключительно то, что считает "нужным" с точки зрения своего "дела". Между тем он не только берется за это "дело", но еще считает его "веселой обязанностью".