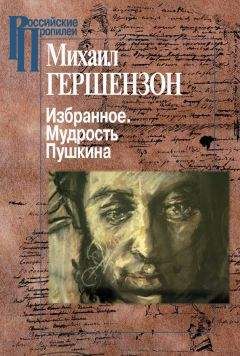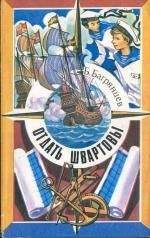Наталья Гершензон-Чегодаева - Первые шаги жизненного пути
Если я пытаюсь проникнуть памятью в самые истоки моего существования, то я больше всего для первых сознательных мгновений ощущаю — папу. Не маму, не Сережу, не игрушки, а папу. Должно быть, величие его личности, яркость индивидуальности ощущались крошечным существом, только вступающим в жизнь, сильнее всего. "Папа" было первым моим словом, а с его концом ушла богатейшая, самая мудрая и подлинная часть жизни, оставив зияющую пустоту, ничем не заполнившуюся никогда. От него принималось все как непререкаемое.
В раннем нашем детстве он значительно больше любил Сережу, чем меня, и гораздо больше проводил с ним времени. Но никогда, ни на единую долю секунды это не показалось мне обидным, не кольнуло моих чувств. Раз так он считает, значит, так оно и есть, ни рассуждать, ни обдумывать здесь было нечего. И когда однажды вечером, гуляя со мной по Никольскому переулку, дойдя до наших ворот, он в шутку сказал: "Подожди меня у ворот, здесь живет один мой знакомый, я должен зайти к нему на минуту по делу", я, ни секунды не колеблясь, остановилась ждать, потому что от его слов знакомые ворота перестали быть нашими и дома напротив изменили свой облик. И так было всегда, до самого дня его смерти.
А потом, годы подряд, мне снилось, что он вернулся и я тороплюсь рассказать ему все, что произошло без него. И, странным образом, он, такой сильный и волевой, всегда снился мне и снится теперь (только уже очень редко) маленьким, жалким, беспомощным, таким, которого надо жалеть и ласкать как ребенка. Должно быть, его душа всегда была такой, но этого никто не знал и не видел за оболочкой его тела и разума. Всеми забытый, даже тем Сережей, в которого он столько вложил, он живет только в своих никому ненужных писаниях, скрытых за дверцами старинного, подаренного Лили шкафа, в моем сердце и вечном смятении моей бесконечно усталой и тоже никому ненужной души.
Все его великие мысли и горячие, полные живой кровью и огнем чувства ушли куда-то в незримые пространства и только иногда вьются вокруг меня, напоминая об его безграничной любви и неповторимой, больше никогда не встреченной мудрости. И ненужные слезы текут по увядшим щекам той, которую он знал только маленькой девочкой и едва расцветающей девушкой, которой говорил: "Я никогда никого так не любил как тебя, даже маму" или: "В тот день, когда твои руки убирают мой письменный стол, мне совсем по-другому работается". Однако довольно об этом; есть вещи, которые слишком тяжело вспоминать.
Но мне кажется, что если бы моего отца вспоминали и им бы гордились люди, мне было бы не так трудно, не так одиноко жить на свете.
31 марта 1952 года
Дом в Никольском переулке
Я помню себя очень маленькой, когда я еще плохо говорила, а говорила я все с полутора лет. Мне начал открываться мир в маленьком деревянном флигеле с мезонином, стоявшем у ворот большого помещичьего двора старой Москвы. Напротив флигеля был другой — большой двухэтажный дом, где жила Лили с девочками и наверху семейство Шемшуриных, жильцов, перешедших еще от прежнего владельца. Оба дома были розовые, старые, а на флигеле видны были следы копоти, как говорили, от пожара 1812 года. Флигель имел крылечко, которое можно было видеть из окна, и если раздавался звонок, я летела к окну смотреть, кто пришел и кричала: "Белый Андрей пришел!".
Помню себя крошечной, плохо говорящей. Я стою зимой на дворе над примерзшей ко льду щепочкой, стараюсь ее отодрать и обиженно повторяю: пиипла. И рядом папа, поддразниваю-щий меня вместе с Сережей (они любили дразнить меня, пока я была совсем маленькой). Все ранние эпизоды жизни своим фоном имели для меня папу, так они вспоминаются и сейчас.
Смутно помню приезд к нам дяди Бумы и то, как я, стоя внизу у калиточки, загораживав-шей лестницу к папе наверх (чтобы мы на нее не взбирались), кричу: "Дядя Ума, иди тяй пить!" Также смутно припоминается другой приезд, тоже из Одессы, маленькой, согнутой бабушки. От ее пребывания запомнился, собственно, только зеленый фарфоровый горшочек, в котором ей за столом особо подавали еврейскую пищу.
От первых лет жизни, естественно, больше всего вспоминаются летние впечатления. "Они относятся к 1911 и 1912 годам, и я не могу теперь расположить их хронологически. Мы ездили летами в Силламяги в тогдашней Эстляндии, на берегу Финского залива. Я очень хорошо помню это чудное место с северным светлым морем и соснами, с речкой и водяной мельницей, с лесом, полным черникой, и с лужайкой, покрытой земляникой, выступавшей после косьбы.
Помню полурусскую, полуиностранную жизнь, эстонцев и немцев, чистенькие магазины и курзал, из которого неслись вечерами звуки вальсов. Помню некоторых жителей: высокую фрейлейн Брокгаузен — владелицу дач и доктора Барнеля, лечившего нас, маленького Оскара — сына мельника, нашего приятеля, хорошо помню многих дачников, петербургских мальчиков Петю и Никишу Полибиных в матросских костюмчиках и их бонну. Многих московских литераторов, ездивших в Силламяги. Жили там Вячеслав Иванов с семьей и историки Дмитрий Моисеевич Петрушевский, и Дмитрий Николаевич Егоров. У Егорова были дети постарше нас. Они любили тискать меня и затаскивать к себе на дачу. Я почему-то этого ужасно боялась. Боялась даже проходить мимо их дачи. Особенный страх внушал мне старший мальчик Андрюша, так, что потом все детство и юность я не любила имя Андрей. Не могла же я тогда знать, что моя судьба сольется с этим именем и оно будет таким близким, родным.
В одно из этих двух лет в дачном обществе образовались два круга теннисистов и любителей городков. Теннисом заправлял Егоров, красивый и элегантный, в белых фланелевых брюках. Я любила ходить на теннис, смотреть на нарядных мужчин и дам, слушать очень нравившиеся мне возгласы "Аут", "Гейм" и т. д. Городки мне не нравились. Любители городков держали себя вызывающе по отношению к теннисистам, нарочито противопоставляя им свой демократизм. Симпатии папы были на стороне любителей городков, во главе которых, как я узнала от мамы лет двадцать спустя, стоял знаменитый физиолог Павлов. Я же в душе не соглашалась с папой (редкий случай!) и скучала, когда он затевал с Сережей игру в городки. Помню, что мы часто ходили мимо дачи, где в саду все клумбы и газоны были обложены одинаковыми белыми плоскими морскими камешками, а балкон окружали полотняные занавески с красными полосами. Это и была дача Павлова.
Как много запахов запомнилось от этих лет! Особенно запах моря, водорослей, смолы и рыбы, такой интенсивный, какого я больше нигде не встречала, запах резеды и махровой герани, которую мы покупали в горшках в садоводстве, запах сосен, запах печеного хлеба и пирожных, шедший из фургона булочника, приезжавшего по утрам.
Из звуков особенно помню непрерывный шум близкого моря, на фоне которого проходила вся жизнь, и звук бурлящей воды на мельнице, куда мы очень любили ходить.
Всю нашу жизнь в Силламягах организовывали папа и Лили.
Они затевали прогулки на Петгоф, от которого я помню только обрыв, пресный, неизвест-ный в Москве, хлеб и солдат на ученье, прыгавших через копны. Они фотографировали Кодаком, проявляли, печатали и наклеивали карточки в альбомы. Помню запах фиксажа и черные ванночки, в которых мокли фотографии. Мы часто ходили вдоль моря по берегу в рыбачьи деревни, где вверх дном лежали просмоленные черные лодки и сушились сети с прямо-угольными пробками (две такие пробки были у нас в Москве, одна из них постоянно лежала у папы на письменном столе). Заходили в избы, где коптились салакушки — необыкновенно вкусные рыбки с золотистой кожицей. Ночью накануне дня Ивана Купала на берегу бывало народное гулянье. Жгли смоляные бочки на высоких шестах, воткнутых в песок. И нас водили туда. Так странно было находиться на берегу ночью в толпе людей при свете пылающих смоляных факелов!
Ко времени до моих трех лет относятся следующие шалости: однажды я забралась в комнату к жившей у нас тогда немке и вылила из чернильницы чернила на белую скатерть. Зачем я это сделала, не знаю, никакого чувства злобы не помню. После этого папа отшлепал меня по рукам — единственный раз, когда он меня ударил. В другой раз я залезла на комод и перед зеркалом ножницами отрезала у себя локон. Как-то, когда мы были одни с папой, я засунула себе глубоко в нос комочек ваты. Папа вытаскивал его шпилькой, шла кровь. Одно платье я разрезала на себе от подола до ворота, так уж оно мне не понравилось. Залезла в буфет в поисках мелкого сахара и высыпала себе в рот всю соль из солонки, после чего меня рвало.
Я была очень любопытна и говорлива. Мысли скакали у меня поминутно, и я все их высказывала вслух. У меня был маленький курносый нос с красным пятнышком на кончике и в веснушках, черные как вишни глаза и жесткие рыжеватые, всегда растрепанные волосы с короткой косичкой. Я была крошечного роста, ловкая и увертливая, легкая как пушок. Взрослые любили тискать меня и играть мною, как куклой.