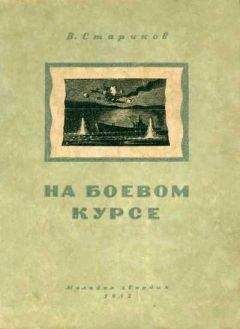Дмитрий Мережковский - О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы
Будущий историк русской культуры, минуя многое, что теперь волнует и пленяет умы, остановится с немалым удивлением перед многозначительным образом одного из царей поэзии, увенчанных всемирной славой, Л. Толстого, в крестьянской одежде идущего за сохой, как он изображен на известной картине Репина. Что бы там ни говорили о тщеславии, как бы ни смеялись и ни спорили, фигура эта возвышается в XIX веке и невольно приковывает внимание. Мне кажется, что в мятежном восстании русского поэта против того, перед чем лучшие люди Европы, – олимпиец Гёте так же, как демонический Байрон, – преклонялись с трепетом и благоговением, много искреннего, к сожалению, может быть, слишком много искреннего. Толстой обнаружил в резкой наготе то, что и прежде сквозило в жизни и произведениях наших писателей. Это их сила, оригинальность и, вместе с тем, слабость.
В Пушкине, почерпнувшем, быть может, самое смелое из своих вдохновений в диком цыганском таборе, в Гоголе с его мистическим бредом, в презрении Лермонтова к людям, к современной цивилизации, в его всепоглощающей буддийской любви к природе, в болезненно гордой мечте Достоевского о роли Мессии, назначенной Богом русскому смиренному народу, грядущему исправить все, что сделала Европа, – во всех этих писателях то же стихийное начало, как у Толстого: бегство от культуры.
Теперь сравните с Толстым, идущим в лаптях за сохой, образ представителя всемирно-исторической культуры – Гёте. В Веймарском доме, похожем на дворец или музей, среди сокровищ искусства и науки – божественный старец, тот, пред кем создатель Манфреда склонялся, как ученик, как «ленный вассал»! Разве Гёте не был удручен тою же самою мировой скорбью, которая в тридцать лет сожгла титана Байрона, довела его до отчаяния и самоубийства развратом? И все же Гёте среди такой скорби умел жить и радоваться жизни! Каким юношеским восторгом вспыхивал в 80 лет орлиный взгляд его, когда он слышал о новом открытии, подтверждавшем теорию цветов или биологическую эволюцию. Не было такого культурного явления во всех веках у всех народов, с которым не пришел бы в соприкосновение его всеобъемлющий ум, на которое не ответило бы его многозвучное сердце.
И заметьте, что стихийной творческой силы у Гёте во всяком случае не меньше, чем у стихийных поэтов России. Этот олимпиец сам часто говорил о том темном, ночном, недоступном разуму, «демоническом», как он любил выражаться (от слова d a i m w n – божество), с чем он боролся и что управляло всей его жизнью. Представителя культуры, разумного Гёте, пишущего тихие лукрециевы гекзаметры о подборе животных и растений, вы не узнаете, читая проклятия Фауста. Ничего подобного по стихийной силе нет у самого разрушителя Байрона. Наука приблизила Гёте к природе, еще более обнажила перед ним ее божественную тайну: Была ему звездная книга ясна, И с ним говорила морская волна.
Он не боялся, что наука и культура отдалят его от природы, от земли, от родины, он знал, что высшая степень культуры, вместе с тем, высшая степень народности.
Гёте – лучший тип истинно великого, не только поэта, но и литератора. Толстой, великий поэт, никогда не был литератором. В своих автобиографических признаниях Толстой неоднократно высказывает, по-видимому, искреннее и тем более плачевное презрение к собственным созданиям. Это презрение невольно пробуждает горькое раздумье о судьбе русской литературы. Если уж один из величайших наших поэтов так мало признает культурное значение поэзии, чего же ждать от других? Нет, Гёте не презирал того, что создал. Такое отношение, как у Толстого, к собственным творениям показалось бы ему святотатством. Вот бездна, отделяющая поэзию от литературы. В сущности это та же самая бездна, которая отделяет стихийное от человеческого. Сколько бы еще у нас ни было гениальных писателей, но, пока у России не будет своей литературы, у нее не будет и своего Гёте, представителя народного духа. Стихийный богатырь, герой древнерусских былин, не подымет маленькой «переметной сумочки», в которой заключена тяжесть мира, бремя земли.
Слезает Святогор с добра коня,
Ухватил он сумочку обема рукама,
Поднял сумочку повыше колен:
И по колено Святогор в землю угряз,
А по белу лицу – не слезы, а кровь течет…
Тяжесть мира не может поднять один народ, как бы он ни был силен. Древний богатырь все глубже и глубже будет уходить в землю, удрученный стихийной силой, если, наконец, не признает, что есть и другая высшая сила, кроме той, в которую он до сих пор верил.
II. Настроение публики. Порча языка. Мелкая пресса. Система гонораров. Издатели. Редакторы
Когда думаешь о настроении тех, кто теперь читает и пишет в России, перед глазами невольно встает знакомый великорусский пейзаж. Местность где-нибудь в средних губерниях, около полотна железной дороги. Скудная природа, истощенная не менее скудной цивилизацией. Болота с торфяными кочками и пнями, остатками вырубленного леса, обмелевшая, унылая речонка. На косогоре – несколько серых домиков; самый большой с надписью – «Трактир». На рельсах – пьяные мастеровые в городских поддевках, с гармониками и нелепыми песнями. Вдали фабричная труба. И надо всем – холодный, резкий, как будто мертвый, день, скучное северное небо:
Румяный критик мой, насмешник
толстопузый,
Готовый век трунить над нашей
томной музой,
Поди-ка ты сюда, присядь-ка ты со мной,
Попробуй, сладим ли с проклятою хандрой.
Взгляни, какой здесь вид…
Откройте наудачу современный «толстый» журнал или газету, вы встретите то же настроение, тот же мертвый колорит, ту же скуку, ту же печать уродливой, полуварварской цивилизации и ту же унылую, безнадежную плоскость.
Помню, я испытал с обидной горечью и ясностью эту, в сущности, давнишнюю, родную, уже Пушкиным описанную скуку, возвращаясь из-за границы, из Парижа. Без всяких политических и философских соображений, просто в бульварах, в толпе, в театрах, в рекламах, выставках, кафе, в этом непрерывном ропоте человеческого океана – чувствуется, что там есть жизнь.
Нигде, даже в России, не царствует такая скука, как в литературных кружках. Опять-таки, без всяких высших философских и политических соображений, просто кажется, что здесь нет жизни. Когда сразу из европейского воздуха, из атмосферы напряженной деятельности и мысли перенесешься в один из этих притонов скуки, в одну из несчастных петербургских редакций, с каким горьким недоумением слушаешь унылые разговоры унылых сотрудников. Если редакция легкомысленная, кажется, что попал в подозрительную справочную контору; если редакция серьезная, чувствуешь себя в канцелярии среди чиновников.
Я помню литературный кружок одного молодого журналиста, подававшего большие надежды. Там собирались писательницы-дамы, и только что прогремевшие беллетристы, и люди почтенного старого времени, талантливые и умные. Тем не менее скука царствовала непреодолимая. Все только притворялись, что делают серьезное, кому-то нужное дело, а в душе томились. Однажды принесли в редакцию простую детскую игрушку, бумажную муху. Надо было заводить пружинку, и муха, треща крыльями, летала по комнате. Как все были довольны, как хохотали и забавлялись!.. Угрюмые лица просветлели, и дамы хлопали в ладоши. С тех пор прошло лет шесть, но я помню очень ясно эту маленькую бытовую сценку, не лишенную местного колорита.
В последнем из своих стихотворений в прозе Тургенев говорит:
«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, – ты один мне поддержка и опора, о, великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! – Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома! – Но нельзя верить, чтобы такой, язык не был дан великому народу».
Три главных разлагающих силы вызывают упадок языка. Первая из них – критика. Еще Писарев ввел особый иронический, почти разговорный прием. Надо отдать ему справедливость; этот сжатый, несколько надменный, как речи Базарова, но увлекательно сильный язык был отлично приспособленное разрушительное орудие в его руках. Писарев ослепил все поколение русских рецензентов 60-х годов. В критическом отделе «Отечественных записок» считалось непринятым писать другим языком. Но как и всегда, подражатели взяли только внешние стороны оригинала. Силу они превратили в грубость, иронию – в оскорбительную фамильярность с читателем, простоту – в презрение к самым необходимым приличиям. Ничто так не развращает первоначально искреннего и всегда серьезного языка народа, как эта литературная бойкость дурного тона.
Другая сила, разрушительно влияющая на литературную речь, – та особенная сатирическая манера, которую Салтыков называл «рабьим эзоповским языком». У него стиль этот хорош, полон смертельного яда, тайного мщения и своеобразной, если можно так выразиться, злобной красоты! Салтыков владел духом народной речи. Но во что превратили эзоповский язык все бесчисленные либеральные и консервативные (ибо и такие были) подражатели Салтыкова, критики из мелкой прессы и «Будильника», фельетонисты, обличительные корреспонденты. Насильственное и тяжелое остроумие, хитрые намеки, ужимки, сатирические гримасы – все это вошло в плоть и кровь газетного жаргона. Рабий язык может быть оправдан только высочайшим внутренним благородством и отвагой сатиры; иначе он бесцелен и противен. Ясность, простота речи становятся все более и более редкими достоинствами.