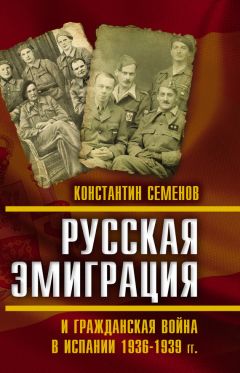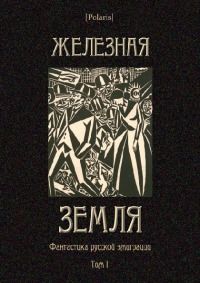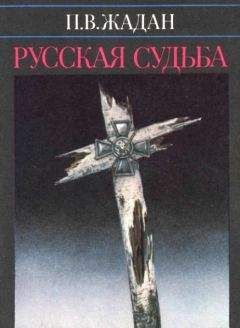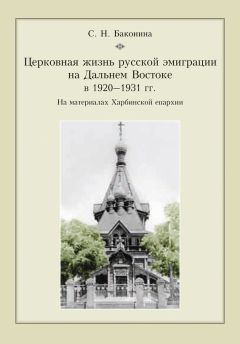Михаил Назаров - Миссия Русской эмиграции
Первая эмиграция была элитарна, коммунистический режим – силен, и ее роль оказалась особенно важна в выполнении первой и третьей задач. Поскольку "естественный отбор" первой волны эмиграции в значительной мере произошел на основании тех традиционных ценностей, которые новая власть преследовала наиболее жестоко, национальная и творческая заслуга первой эмиграции для России – наиболее велика. Да и хронологически первая эмиграция была ближе к истокам катаклизма; она смогла и за пределами России застать неоднородный, кризисный мір, давший много пищи для размышления.
Вторая эмиграция, "отбор" в которую был проведен наиболее жестокими репрессиями власти над народом, представила все социальные слои, имевшиеся к началу войны. Это был сколок общества уже советизированного, обезглавленного, но и наиболее ожесточенного после репрессий, наиболее непримиримого к режиму – что проявилось в трагической попытке создания Русской Освободительной Армии в военные годы... Неудивительно, что после войны эта часть российской эмиграции ставила акцент на выполнении второй функции: на активной политической деятельности, в чем-то копируя большевиков, часто при невнимании к духовному процессу. Это создавало некоторую трещину между первой и второй волнами, которая зарастала не сразу. Расколы в НТС 1950-x годов – типичный этому пример. Лишь постепенно вторая волна воспринимала культурно-религиозные ценности, хранимые первой, дорастала до духовного уровня задач, но все-таки мыслителей должного калибра дала мало.
Появление "третьей эмиграции" окончательно примирило и сблизило первую и вторую, ибо оказалось, что их национальные ценности общие – по сравнению с космополитическим духом эмиграции третьей. Последняя оказалась весьма специфическим отбором в другом качестве: она попала на чужбину, уже не спасаясь от смерти и часто не из-за сущностной несовместимости с идеологией режима, а в подавляющей своей массе бежала от несвободы за свободой и за лучшей жизнью. Лишь незначительная часть этой массы включилась в жизнь русского зарубежья, и этот вклад был чаще разрушительного, чем созидательного характера.
Впрочем, и "третья эмиграция" имеет свой важный историософский смысл, без уразумения которого многое осталось бы непонятным в развитии нашего міра. Ибо, во-первых, некоторые важные истины могут постигаться и от противного, в результате попыток их отрицания, чему третья эмиграция дает интереснейший пример. И, во-вторых, сама третья волна – тоже следствие все тех же міровых катаклизмов нашего столетия, их запоздалый отголосок, дающий еще один повод задуматься над их причинами...
Пока что лишь отметим, что в основу естественного отбора третьей эмиграции в немалой мере лег принцип непатриотичности. Это было обусловлено уже тем, что выезжать могли преимущественно евреи (немцы, греки и армяне здесь к российской эмиграции не причисляются, ибо, уезжая, они сразу же растворялись в среде соответствующих стран и своих национальных общин, русскими делами не занимаясь). И даже небольшая часть русских в третьей волне была результатом того же естественного отбора.
Покинуть родину (а подавляющее большинство уезжало с мыслью, что это навсегда) могли люди не очень ее ценившие: в составе смешанных семей, но также немногочисленные политэмигранты и искатели приключений.
В числе последних в 1975 году попал на Запад и я – из Алжира, куда был послан переводчиком на строительство металлургического комбината. Мой случай, конечно, нетипичный, и я вообще не намерен вносить в эту книгу биографический материал. Но мне кажется полезным описать свою исходную точку в восприятии западного міра, в соотнесении с которой только и будет понятен результат последующих пятнадцати лет жизни на Западе, предлагаемый в этой книге.
2. «Другая сторона луны»
Причиной моего ухода на Запад (с женой и сыном) стал не столько конфликт с "надзирателями" (из-за моих знакомств с иностранцами и из-за побега коллеги); и не только давление КГБ, которое назойливо требовало сотрудничества, на которое я пойти не мог (взяв с меня перед выездом требовавшуюся подписку о "помощи органам", они фактически предопределили разрыв, происшедший в дальнейшем).
Основная причина побега была в существовании самого Запада. Он притягивал меня как таинственная "другая сторона луны", о которой простой смертный мог тогда лишь знать, что она есть и что ее никогда нельзя увидеть. Пришельцы оттуда – свободнорожденные, раскованные интуристы – казались чудом с сияющей аурой небожителей...
Эта невозможность воспринималась как вызов. Это она манила посмотреть на "край карты", куда я поехал работать после техникума (о. Диксон, мыс Челюскин). Это она привела меня в московский Инъяз: знание языков позволяло мысленно проникнуть "за границу" - в "потусторонние" печатные издания, услышать чужестранные голоса. Впрочем, и свои: "Доктора Живаго" впервые довелось прочесть по-немецки во время семестра в ГДР...
Каждый из этих моментов можно назвать точкой обратного счета перед стартом, шагом к эмиграции. Начало было, пожалуй, в 1968 г., когда американцы впервые облетели Луну – и в какой-то советской газете об этом появилось лишь несколько строк на последних страницах... Этот поразительный контраст – между громадностью события и вымученными петитными строчками – стал для меня откровением сущности власти, ее самопризнанием, что она борется не только против человеческой свободы, но и против существующей реальности, против самого бытия. Я остро почувствовал, что от меня скрывают истину о самом устройстве міра, совершают онтологическую подмену его смысла. Примириться с этим я не мог.
Но помимо "исследовательской" цели – преодолеть запретную черту, очерченную на карте красной линией, пробиться в иное измерение – здесь была еще одна, не менее увлекательная: победить невидимую Машину, которая старалась сделать из меня винтик, задействовать в своем механизме, регламентируя всю мою жизнь, предписывая, что мне положено и что не положено знать, где положено жить, какую носить одежду, прическу... Цель освобождения была возбуждающе заманчива, она ощущалась как главное испытание, на что ты вообще способен. Ставкой и наградой здесь была сама жизнь – даруемая нам один раз, и разве можно ее безсмысленно приносить в жертву Машине?..
Никто мне не встретился, кто мог бы сказать: ты, допустим, освободишься, а как же твой народ? Впрочем, вряд ли я бы тогда к этому прислушался, поскольку народ в моих глазах виделся несущим транспаранты и портреты вождей на демонстрациях... А те московские диссидентские круги, которые мне довелось увидеть, не произвели серьезного впечатления из-за своей богемности; они были, в сущности, порождением все того же Запада, куда они, как и я, обращали все взоры, на который молились и которому подражали – но меня эта самодельная копия не устраивала: мне важно было видеть оригинал.
Кульминационной точкой переживания этой цели были три месяца в Алжире, из них месяц на нелегальном положении – в бегах, почти без денег, без связей, к тому же нас искала жандармерия, "отвлекаясь" от которой мы бродили по руинам городов древнеримской империи... Я проникал в порты, говорил с моряками, летчиками – ибо покинуть Алжир легально гражданину СССР было невозможно...
Еще накануне Алжира, из общения с верующим другом, появилось сомнение: стоит ли так круто ломать свою судьбу. В Алжире, у порога в другой мір, стало еще яснее, что предстоявший выбор – родина или свобода – связан не только с приобретением, но и с потерей: что бы ни выбрал – всегда будет не хватать того, чего не избрал. Я полагал, что за два года в Алжире (срок моего контракта) все обдумаю и приму решение. Но его пришлось принимать за два часа: бежать или не бежать (и значит уже никогда не попасть за границу...) – ибо, из-за упомянутого конфликта, нас должны были отослать в СССР.
Поэтому буквально в последнюю минуту родился наивный способ совместить несовместимое: мы оставили записку, что «просто решили съездить в Европу», в «ознакомительное путешествие», после чего вернемся, ибо «жить на родине такое же неотъемлемое право человека, как и право увидеть мір» (как раз тогда это было провозглашено в Хельсинки). Четыре-пять лет лагеря по возвращении казались вполне приемлемой ценой за это.
С этой минуты пошло время отсчета перед стартом, когда его уже нельзя отменить; даже если нет уверенности в благополучном выходе на орбиту. Уверенности не было никакой, но питательной энергией действий был все тот же азарт противоборства с Машиной. Оставалось только сосредоточиться на техническом овладении ситуацией, что занимало весь день, и только по ночам в гостиницах пытаться осмыслить происходящее, даже немножко ему удивляясь... Это балансирование в течение месяца на грани двух, даже трех міров, на древней средиземноморской земле, впервые дало ощущение человечества в его экзистенциальной полноте, общим знаменателем которой показалось, его несовершенство: одни нас пытались ограбить, другие боялись как компрометирующей связи, третьи равнодушно отворачивались – таких было большинство...