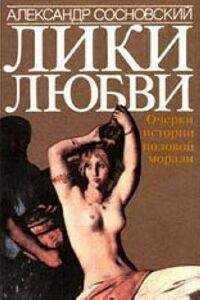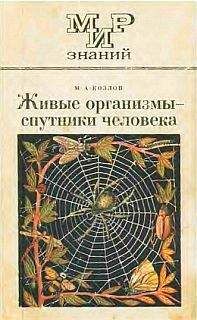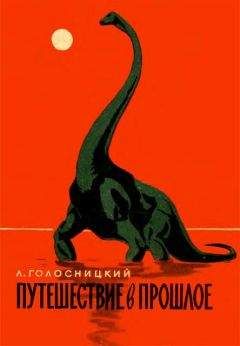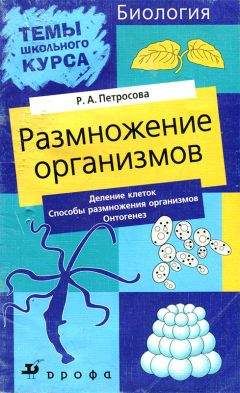Александр Бондаренко - Загадочные страницы русской истории
— Можно ли сказать, что со Смутным временем нам теперь все уже ясно?
МОРОЗОВА: Нет, к сожалению, все эти источники очень противоречивы, и в том проблема. Исследователю приходится верить либо одному современнику, либо другому. Есть еще, кстати, очень много сочинений иностранцев о том времени, но те совсем по-другому все освещают. Разобраться в этой противоречивости, найти золотую середину — это и есть задача исследователя.
— Значит, предмет для обсуждения имеется. Ну а скажите, что это вообще такое — Смута? В Толковом словаре это понятие объясняется как «возмущение, восстание, мятеж, крамола, общее неповиновение, раздор меж народом и властью; замешательство, неурядица, непорядок, расстройство дел». А в истории, применительно к событиям XVII столетия?
МОРОЗОВА: Здесь, по-моему, понятие «Смута» остается проблемным — до сих пор споры идут по этому поводу, существуют разные точки зрения. Это спорная и очень щекотливая проблема.
ЛИСЕЙЦЕВ: Есть точка зрения, что смута — это вообще хроническое состояние нашей страны, что они у нас непрерывно чередуются, идут одна за другой. Говорят, что и в начале 1990-х была смута, и 1917 год — русская смута, или «красная смута», как ее называли.
— Недаром же генерал Деникин назвал свою книгу «Очерки русской смуты».
ЛИСЕЙЦЕВ: Середину XVII века также называли не только «бунташным», но и «смутным» временем, равно как и эпоху Ивана Грозного иной раз именовали «эпохой великой Смуты», и так далее. Тем не менее, когда говорят о Смутном времени, в памяти прежде всего всплывают события начала XVII века. Но этот термин долгое время был в нашей исторической науке под запретом, считался порождением дворянско-буржуазной историографии.
НИКИТИН: Да, у нас ревностно отстаивалась и проводилась мысль, что это никакая не Смута, а интервенция и движение Болотникова.
ЛИСЕЙЦЕВ: Действительно, употреблялся оборот «крестьянская война и иностранная интервенция начала XVII века», а реабилитация понятия «Смута» начинается только с конца 1980-х — начала 1990-х годов.
МОРОЗОВА: На мой взгляд, смута всегда связана с ослаблением верховной власти. Как только верховная власть слабнет, в стране начинается какой-то разброд, шатание, появляются различные политические группировки, начинается борьба — экономическая, политическая и всякая, какая угодно. Смута начала XVII века была связана с пресечением царской династии, когда умер последний царь из династии московских князей — Федор Иванович, не оставив детей.
НИКИТИН: Многие проводят аналогии между тем временем и 1917 годом, когда также произошло резкое ослабление государственной власти в России. Когда власть ослабевает, происходят самые различные события, но в конечном итоге для страны, для народа гибельные и плачевные. Карамзин сказал примерно следующее: Россия всегда сильна была самодержавием. Когда же самодержавная власть приходила в упадок, то приходила в упадок и Россия. В данном случае вместо «самодержавие» надо просто поставить «государство».
КУРУКИН: Говоря современным наукообразным языком, это было нечто вроде системного кризиса, связанного с теми бурными событиями, что происходили в России во время царствования Ивана Грозного и достаточно серьезно потрясли всю страну. Этот кризис появился не только в политической системе России: ведь характерная еще с очень далеких времен фундаментальная черта нашей истории вообще — повышенная роль государственных структур во всей жизни общества.
РОГОЖИН: Уточню, что это, на мой взгляд, был кризис именно переходного времени. Иначе не было бы чего грабить, из-за чего сражаться. Мне кажется, любая смута — это перераспределение финансовых потоков. Перераспределение экономическое, духовное, территориальное. Причем происходит оно не в момент бедственный, а в момент наивысшего развития. У Смуты XVII века много было причин, но при всем при этом было за что воевать, для чего идти сюда, что грабить. Предшествующий период — несмотря на опричнину, голод, пресечения — все-таки достаточно подготовил страну экономически, вот ее и хотелось грабить.
КУРУКИН: Не только хотелось, но и было можно…
РОГОЖИН: Конечно! То же самое было и в начале XX века — в любой из кризисов, который мы еще называем революциями или «переходным временем».
ЛИСЕЙЦЕВ: На мой взгляд, это был не только кризис политический, не только династический. Гораздо важнее, что все это сопровождалось экономическим кризисом и к тому же духовным, в основе которого лежал определенный конфликт между церковью и государством. Да еще он был дополнен вмешательством иностранных государств — налицо был кризис внешнеполитический. В общем, это был комплексный кризис российского общества, который удалось преодолеть только с очень большим трудом.
КУРУКИН: Приведу пример, чтобы было понятно, что такое Смута. Утром въезжают в город и говорят: «Мы — от законного царя Димитрия Ивановича». Сажают воеводу, собирают деньги, бьют несогласных… На следующее утро въезжает другой отряд: «Мы — от законного царя Василия Ивановича». И все повторяется, а кто завтра приедет — также неизвестно. Представьте себе нормального русского человека, который в происходящем совершенно ничего не понимает! А когда человек дезориентирован, начинается как бы ломка сознания и поведения людей; недаром, кстати, в произведениях Смутного времени можно найти жалобы не только на то, что у нас нет царя и что какие-то враги наступают, но и на то, что начинается пьянство в огромном количестве. Для нормального обывателя, который жил в России, Смута была тяжелейшим потрясением.
МОРОЗОВА: В «Сказании» Авраама Палицына как раз описывается этот духовный кризис. Сказано, что православные люди перестали верить в Бога, грабят церкви, вытаскивают иконы, стали туда каких-то блудниц заводить, коней, собак. Автора больше всего возмущает то, что это не какие-то иноверцы, а православные, которые полностью разуверились во всем. Такое страшное падение нравов по стране началось, что просто некуда уже идти, — грабежи, пьянки, убийства.
ЛИСЕЙЦЕВ: Кстати, Авраамий Палицын отмечает, что хотя люди постоянно стонут о нищете и бедности, но при этом они «любезно прибирают серебро». То есть богатеют, но продолжают стонать о своем тяжелом положении. Ну а что касается прикосновения к «традиционным материальным ценностям», то ни один переворот, ни одно свержение не обходились без погрома винных погребов. Так произошло, и когда свергли Годуновых в 1605 году, этим же сопровождалось убийство Лжедмитрия в 1606 году.
КУРУКИН: Да, например, в 1612 году отряд казаков, воровских естественно, занял Вологду, потому что все перепились и защищать ее было просто некому! По свидетельству современника, «дети матерятся, родителей не слушают…». Такие вещи как раз были очень характерны для времени, когда все прежнее, тот устойчивый мир, который существовал в сознании людей, вдруг ломается, все рушится, и никто не знает, как дальше себя вести, где правда, где ложь. Это был колоссальный духовный кризис, о котором мы плохо еще осведомлены.
— Вы сказали о «воровских казаках». Это кто?
НИКИТИН: Речь идет об одном из весьма красноречивых показателей последствий ослабления государственной власти. Где-то с конца XV — начала XVI века на окраинах Русского государства формируется вольное казачество — общины людей, которые добывали себе средства к существованию военным делом, в том числе элементарным разбоем.
КУРУКИН: Конечно, это были не те казаки, которых мы знаем по «Тихому Дону» — сословие на государственной службе, а, скорее, те, что известны по Гражданской войне. Появлялся «пан-атаман», который объединял вокруг себя всех, кого угодно, и эти люди контролировали определенную территорию — без всякой власти. Казаки начала XVII века — это и были кто угодно: вчерашние дворяне и представители знати, какие — нибудь поляки, или те, кого называли «литовскими людьми», татары, даже были казаки-евреи. Это называлось «приставство казачье» — мол, «мы, ребята, вас всех берем и защищаем».
НИКИТИН: Казаки традиционно формировали свои общины там, где государственная власть не может быть сильной, куда ее руки не могут дотянуться, — на окраинах. Однако в период смуты районами массового формирования казачества становятся не Волга или Дон, а центральные, обжитые районы страны. Это бывшие холопы, военные, крестьяне, тот деклассированный люд, который эта Смута плодит массами. Живут казачьи общины отнюдь не производительным трудом: максимум, что они могли делать, — ловить рыбу. Это им было не зазорно.
— А разве нельзя было быстренько провести «избирательную кампанию» и заполнить вакантное место? Неужели подходящих кандидатов не было?
МОРОЗОВА: Напротив! В большом количестве появились различные претенденты, но дело в том, что ни у одного из них не было достаточно веских оснований для занятия престола. Они не могли сказать, что я — сын, внук, родной племянник усопшего государя, то есть представитель прежней династии. А практики избрания «на государство» еще, в общем-то, до этого не было. Первым избранным царем был Борис Годунов, и его права считались малолегитимными. До того же существовала многовековая практика перехода власти по наследству внутри одного правящего дома. Василий Шуйский утверждал, что он — Рюрикович и что Рюриковичи имеют право на престол. Но таковых было невероятное количество, и если бы каждый из них предъявил свои права на престол, то, наверное, и до сих пор какие-то Рюриковичи на него все бы претендовали.