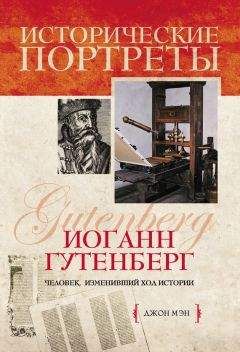С. Муратов - ТВ-эволюция нетерпимости
Когда за наших телезрителей платило само государство, они были лишены информации, от лица которой на общество воздействовала пропаганда. Теперь же, когда расходы на вещание оплачивает рекламодатель, мы лишились культуры, от лица которой торжествует массовая культура. И чем откровеннее коммерсанты от телевидения преследуют материальные интересы, тем слабее звучат в их душах нравственные суждения.
Но общество, лишенное информации или культуры, теряет себя как общество. Оно превращается в объект манипуляций политиков либо в толпу любителей «мыльных опер», когда у каждого зрителя «будут глаза размером с дыню и никаких мозгов».
По существу, централизованная пропаганда и попса — явления, одного порядка. И то, и другое — безотказное средство стандартизации. В одном случае на выходе — пресловутые люди-винтики, в другом — единообразные куклы Барби. Первая ситуация возникает в результате давления сверху, вторая — с нашего собственного согласия и желания /«по заявкам зрителей»/.
«Вы называете наши передачи пошлыми, криминальными, пробуждающими самые низкие из инстинктов. Это — высокомерие. Зритель хочет такого зрелища». Который раз звучит это — «зритель хочет». Но, может быть, этого хочет как раз коммерсант-продюсер. Убедивший себя в том, что вера в стремление зрителей к «высоким материям» — самообольщение и утопия. Что пошлость, невежество, похотливость и отсутствие вкуса — неотъемлемые стороны нашей жизни. И что, избегая их, телевидение изменяет своей природе, искажая картину реального общества. Ибо все, что выше элементарного уровня, аудитории противопоказано. А каково общество — таково телевидение.
Социологи подсчитывают аудиторию — кто в данный момент включили свои телевизоры. Телекомпании, заказавших рейтинг, не занимаются теми, кто телевизора не включил. Они не спрашивают, почему не включил, как, впрочем, не интересуются и теми, кто хотя и включил, но смотрит с досадой и сожалением.
«Я прекрасно понимаю, что те суммы, которые на телевидении вращаются, уже не предполагают понятий «плохо» или «хорошо», «стыдно» или «не стыдно», — размышляет замечательный фотограф-портретист Валерий Плотников о своих давних приятелях и знакомых, работающих на телевидении. Очень славные люди, пишет он, но то, что происходит на их каналах, при их прямом участии, — ошеломляет. «Своими руками вы создаете эту окружающую среду, эту ауру, и в этой чудовищной ауре вырастают и ваши дети тоже. Я не думаю, что когда они станут большими, они скажут: «Папа, как же ты мог?» Потому что дети ваши вырастут такими же, как вы сами».[53]
Но если мы хотим, чтобы государственное российское телевидение служило обществу, а не политикам или коммерсантам, у него нет иного выхода, как обращение к абонентной плате /когда-то уже в нашей практике бытовавшей/. Социологические опросы 92 года показали, что две трети зрителей были бы согласны на ежемесячный скромный взнос при условии повышения качества передач и гарантии льгот для социально неимущих слоев населения. Однако совершить этот шаг руководство страны не решилось.
Разумеется, введение /а, точнее, возвращение/ к абонентной плате — дело трудное.
Но не более трудное, чем введение капитализма в России.
Если телевидение — это бизнес /на коммерческих каналах информация и политика — тоже бизнес/, то расхожая формула «Каково общество — таково телевидение» вполне отвечает сути. Но если телевидение — часть культуры, а не только «лицензия на право печатать деньги» или инструмент для сведения политических счетов, то подобная формула лицемерна. Как и всякая полуправда, которая хочет выдать себя за правду.
Телевидение — кратчайшее расстояние между человеком и человечеством. Средство общения, равного которому в мире нет. Его призвание — выступать духовным объединителем, позволяя каждому приобщиться к лучшему, что создано до него.
Если мы окажемся достойны такой задачи, то привычную формулу придется перевернуть с головы на ноги. И тогда она зазвучит иначе.
«Каково телевидение — таково и общество»
Когда все живое
Подвергает ли себя опасности человек, согласившись участвовать в съемках документального фильма или в нашумевшей передаче? Скажется ли это каким-то образом на его судьбе?
Разумеется, такое участие бывает непреднамеренным. Скажем, вы оказались свидетелем уличного события, которому посвящается репортаж. Невольными потерпевшими могут оказаться лица, случайно попавшие в кадр в эротических или криминальных сюжетах. Присутствие на экране дает аудитории основание заподозрить их в причастности к преступлению или неблаговидной акции. Наконец, вы можете стать виновником съемки, сделанной скрытой камерой.
Многие полагают, что этическая коллизия тайной съемки решается последующим согласием героев на демонстрацию.
Оператор А.Левитан вспоминал, как однажды до выпуска на экран картины он показал своей героине эпизоды, отснятые без ее ведома. Увидев себя на экране, она воскликнула: «Бог мой, мама узнает, что я курю!». Присутствующие рассмеялись. «Да нет же, запротестовала героиня, — вы не знаете моей мамы. У нее, во-первых, больное сердце, а, во-вторых, вы мне испортите домашние отношения». Авторам было жаль отказываться от эпизода, но они посчитали для себя обязательным его переснять.
«Я всегда говорю своему герою: вы будете первым, кто посмотрит картину», — рассказывает Марина Голдовская. Если какой-либо эпизод не устроит героя, а ей не удастся его переубедить — эпизод убирается. «Достаточно один раз переступить черту. Это как украсть… Во второй раз это сделать легче, в третий — совсем легко. Так вот, надо держать себя так, чтобы не сделать этого первый раз».
Но бывают ситуации, когда документалисту приходится переступать черту.
Однажды в школьном музее режиссер А. Каневский увидел пожелтевшее от времени письмо. Молоденькая ленинградская санитарка писала в августе 42 года о премьере 7-ой симфонии Шостаковича, которая потрясла ее. Письмо было адресовано на фронт — юному наводчику первого орудия. Льву Жакову. Они познакомились, когда ей было пятнадцать, он учился в 8-ом классе. Война разлучила их на четыре года. Почти ежедневно она писала ему на фронт из блокадного города, где на улицах падали обессиленные люди. В ее доме дедушка, старый ученый, зажав виски кулаками стонал и выл от голода. Живы ли близкие, по утрам узнавали по пульсу. Слово «любимый» на том листочке стояло под штампом «проверено военной цензурой».
460 писем сохранились с военного времени, и они берегли их всю жизнь.
Раскрыть довоенный дермантиновый чемодан сорок лет спустя, чтобы перечитать эти письма в присутствии режиссера, тоже бывшего фронтовика, — таков был замысел А. Каневского. Но Любовь Вадимовна отказалась.
Муж уговоривал: искусство требует жертв, объяснял он. Раньше это относилось к художнику, а теперь — к героям. «Она пошла на этот фильм, как на плаху, — вспоминал режиссер. — Перед каждой съемкой рыдала — не хочу, не могу. После съемок мы почти с ней не разговаривали. А потом они пришли на премьеру в Доме кино. Зал после фильма /«Во имя жизни и любви»/ разразился овацией. И я обратился со сцены к публике — рассказал всю историю и попросил зрителей рассудить нас, кто прав. Вся публика встала и, стоя, кричала мне — вы! Любовь Вадимовна подошла ко мне и поцеловала».
В другой раз режиссеру пришла в голову забавная идея. На курортах — в час между пляжем и до наступления вечера — обычно договариваются о свиданиях. Мужчины в это время становятся и возбужденными, ходят взволнованными, словно решается их судьба…
А что если в Ялте поставить возле почтамта очаровательную девушку, которая будет кого-то ждать? Мужчины проходят мимо — за письмами до востребования. Останавливаются, заговаривают. Подбирают слова, стараются выглядеть лучше, признаются, что не женаты… А другие, напротив, — что женаты, чтобы показаться более честными… И в конце: «А что, простите, вы делаете сегодня вечером?». В финале этой десятиминутки в кадр должен был войти режиссер: «Маша, спасибо, что вы помогли нам снять эту ленту-шутку. Дайте, пожалуйста, радиомикрофон». Она вынимает его из сумочки. Тот продолжает: «А кстати, что вы делаете сегодня вечером?»… Идея занятная. Но ведь многие лица, сообразил режиссер, в кадре окажутся крупным планом… И не стал снимать этот фильм.
Большинству сегодняшних документалистов такой отказ от своей идеи покажется наивным, а сам автор сентиментальным. Как, впрочем, и доводы оператора-режиссера В. Трошкина, снявшего в начале 60-х лирическую зарисовку «Весенние свидания». Скрытая камера подсматривала за влюбленными парочками — на улицах, в подъездах, на скамейках парка. Перед началом премьеры автор рассказывал залу, с каким смятением монтировал отснятую пленку. «Я вдруг подумал, а откуда мне известно, что этот юноша, так трепетно гладивший руки девушки, на самом деле не является чьим-то мужем? Или что его подруга не чья-то жена?.. Вот вам смешно, а попади эти кадры на глаза обманутому супругу… Вина лежала бы целиком на мне».