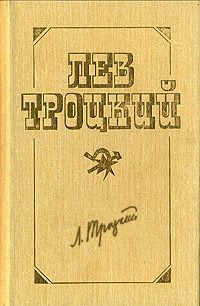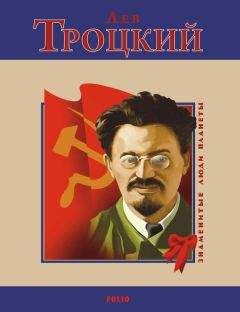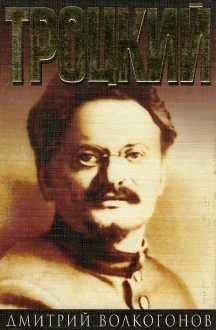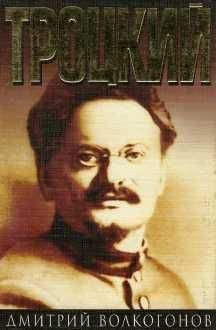Лев Троцкий - Литература и революция. Печатается по изд. 1923 г.
В ненапечатанной еще работе т. Горлова, где дается неправильный, на мой взгляд, интернациональный генезис футуризма и где еще более неправильно, с нарушением исторических перспектив, футуризм отождествляется с пролетарской поэзией, очень вдумчиво и содержательно резюмированы в то же время художественно-формальные завоевания футуризма. Горлов правильно указывает, что выросшая из восстания против старой эстетики формальная «революция» футуризма отображает, по вертикали, восстание против застойного, прелого быта, эту эстетику породившего, и потому, естественно, закончилась у Маяковского, сильнейшего поэта школы, и его ближайших друзей восстанием против социального строя, породившего отвергнутый быт с его отвергнутой эстетикой. Отсюда их органическая связь с Октябрем. Схема т. Горлова верна, но требует уточнения и ограничения. Верно, что новые слова и словосочетания, ритмы и рифмы, понадобились потому, что футуризм в своем восприятии мира перегруппировал явления и факты, установил, т. е. открыл, для себя новые между ними отношения, футуризм против мистики, против пассивного обоготворения природы, против аристократической и всякой иной лени, мечтательства, плаксивости, за технику, научную организацию, машину, план, волю, мужество, быстроту, точность, за вооруженного всеми этими качествами нового человека. Связь эстетического «восстания» с морально-бытовым дана непосредственно: и то и другое целиком и полностью входят в жизненный опыт активной, молодой, еще не прирученной части интеллигенции, левой творческой богемы. Возмущение против ограниченности и пошлости быта и— новый художественный стиль как средство дать этому возмущению выход и тем самым… ликвидировать его. В разных комбинациях, на разной исторической основе мы не раз наблюдали образование нового стиля (малого) из очередного интеллигентского возмущения. Тем дело и кончалось. Но на сей раз пролетарская революция подхватила футуризм на известной стадии его самоопределения и толкнула дальше. Футуристы стали коммунистами. Тем самым они вступили на почву более глубоких вопросов и отношений, далеко выходящих за пределы старого их мирка и органически не проработанных их психикой. Оттого футуристы, в том числе и Маяковский, художественно ел а бее всего в тех своих произведениях, где они законченнее всего как коммунисты. И причиною не столько социальное происхождение, сколько духовное прошлое. Футуристы-поэты не владеют элементами коммунистического миросозерцания и мировосприятия достаточно органически, чтобы давать им органическое же выражение в слове: не вошло в кровь, что ли. Отсюда нередко художественные, по существу психологические провалы, ходульность, громыхание над пустотой. В своих наиболее революционно-обязующих произведениях футуризм становится уже стилизацией. Между тем у молодого Безыменского, который Столь многим обязан Маяковскому, художественное выражение коммунистического мироощущения более органично: Безыменский не пришел сложившимся поэтом к коммунизму, а духовно родился в нем.
Можно возразить — и не раз возражали, — что и программная пролетарская доктрина создавалась выходцами из буржуазно-демократической интеллигенции. Но тут есть разница, для данного вопроса решающая. Экономическая и историко-философская доктрина пролетариата состоит из элементов объективного познания. Если бы не универсально образованный доктор философии Маркс, а токарь Бебель, аскетически экономный в жизни и мысли, с умом острым, как резец, был создателем теории прибавочной ценности, он формулировал бы ее в труде более доступном, простом и одностороннем. Богатство и разнообразие мыслей, доводов, образов, цитат «Капитала», несомненно, обличают «интеллигентскую» оболочку великой книги. Но так как дело идет об объективном познании, то существо «Капитала» перешло к Бебелю, как его достояние, а за ним — к тысячам и миллионам пролетариев. В области поэзии мы имеем дело с образным мировосприятием, а не с научным миропознанием. Быт, личная обстановка, круг личного жизненного опыта оказывают поэтому определяющее влияние на художественное творчество. Переработка воспринятого с детских лет мира чувств посредством научно-программной ориентации — самая трудная внутренняя работа. Не всякий на нее способен. Оттого не мало на свете людей, которые мыслят как революционеры, а чувствуют как мещане. Но оттого же в поэзии футуризма, даже отдавшего себя целиком революции, мы слышим больше богемскую, чем пролетарскую революционность.
Маяковский — большой или, по определению Блока, огромный талант. Он умеет поворачивать много раз виденные вещи под таким углом, что они кажутся новыми. Он владеет словом и словарем как смелый мастер, работающий по собственным законам, — независимо от того, нравится ли нам его мастерство или нет. Многие его образы, обороты, выражения вошли в литературу и останутся в ней, если не навсегда, то надолго. У него свое построение, свой образ, свой ритм, своя рифма.
Художественный замысел Маяковского почти всегда значителен, иногда грандиозен. Поэт вводит в свой круг и войну, и революцию, и рай, и ад. Маяковский враждебен мистике, ханжеству всех видов, эксплуатации человека человеком, — его симпатия целиком на стороне борющегося пролетариата. Жречества от искусства, по крайней мере жречества принципиального, в нем нет: наоборот, он готов целиком поставить свое творчество на службу революции.
Но в этом большом таланте, вернее, во всей творческой личности Маяковского нет необходимого соответствия межу составными элементами, нет равновесия, хотя бы и динамического. Слабее всего Маяковский там, где требуются чувство меры и способность самокритики.
Приятие Маяковским революции естественнее, чем у кого бы то ни было из русских поэтов, так как выросло из всего его развития. Интеллигентских путей к революции много (не все доводят до цели) — и потому важно точнее определить и оценить личную линию Маяковского. Есть путь мужиковствующих интеллигентов, капризных попутчиков (о них уже был разговор); путь объективнейших мистиков, ищущих высшей «музыки» (А. Блок); путь сменовеховцев и просто примиренцев (Шкапская (?), Шагинян); рационалистов и эклектиков (Брюсов, Городецкий, та же Шагинян). Есть и еще пути, всех не перечислишь. Маяковский пришел наиболее коротким путем — мятежной преследуемой богемы. Революция для Маяковского — подлинное, несомненное, глубокое переживание, ибо своими громами и молниями она обрушилась на то, что Маяковский по-своему ненавидел, с чем не успел еще примириться, — и в этом сила его. Революционный индивидуализм Маяковского восторженно влился в пролетарскую революцию, но не слился с ней. Восприятие города, природы, всего мира у Маяковского в подсознательных истоках своих не рабочее, а богемское. Лысый фонарь, снимающий с улицы чулок, — один этот острый образ, чрезвычайно для Маяковского характерный, — освещает своим светом богемский урбанизм поэта лучше всяких рассуждений. Вызывающе цинический тон многих образов, особенно первой половины творчества, несет на себе слишком явственную печать артистического кабачка, сигарного дыма и всего прочего.
Динамичность революции, ее суровое мужество гораздо ближе Маяковскому, чем массовидность ее героизма, чем коллективизм ее дел и переживаний. Как грек был антропоморфистом, наивно уподоблял себе силы природы, так наш поэт, Маякоморфист, заселяет самим собой площади, улицы и поля революции. Правда, крайности сходятся. Универсализация своего я стирает до известной степени грань индивидуальности и приближает к коллективу — с другого конца. Но только до известной степени. Богемски-индивидуалистическое высокомерие — в противоположность не смирению, которого никто не требует, а глазомеру и чувству меры, которые необходимы, — проникает собою «все написанное Маяковским». Патетичность достигает у него нередко чрезвычайнейшей напряженности, но не всегда за этой напряженностью сила. Поэт слишком виден, — событиям и фактам дается слишком мало автономии, — не революция борется с препятствиями, а Маяковский атлетствует на арене слова и иногда делает поистине чудеса, но сплошь и рядом с героическим напряжением поднимает заведомо пустые гири.
О себе Маяковский говорит на каждом шагу в первом и третьем лице, то индивидуально, то растворяя себя в человеке. Чтобы поднять человека он возводит его в Маяковского. По отношению к величайшим явлениям истории он усваивает себе фамильярный тон. И это в его творчестве и самое невыносимое, и самое опасное. О ходулях или котурнах говорить не приходится: это слишком мизерные подпорки. Маяковский одной ногой стоит на Монблане, другой — на Эльбрусе. Голосом заглушает громы— мудрено ли, если он с историей запанибрата, с революцией — на «ты». Это и есть самое опасное, ибо при таких гигантских масштабах везде и во всем, при громоподобном орании (любимое слово поэта), при горизонте с Эльбруса и Монблана исчезают пропорции земных дел, и нельзя установить разницы между малым и большим. Оттого о своей любви, т. е. о самом интимном, Маяковский говорит так, как если бы дело шло о переселении народов. Но по этой же причине он не находит другого словаря для революции. Он всегда стреляет на пределе — а, как известно артиллеристу, такая стрельба дает наименьше попаданий и тяжелее всего отзывается на орудии.