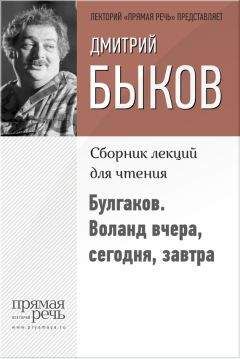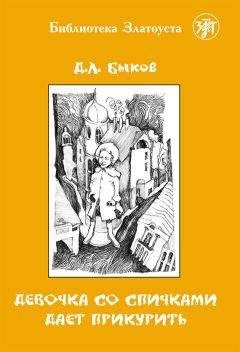Дмитрий Быков - Блуд труда
– Это дочь поэтессы Шкапской,- сказали мне.
Дочь поэтессы Шкапской и мне улыбнулась, но когда я закричал – ну как же, Шкапская, я знаю, великий поэт!- это было сочтено с моей стороны обычной вежливостью неофита, и разговор продолжения не получил. И странно мне было думать, что у такой страшной Шкапской может быть обычная, веселая и дружелюбная дочь. Как выяснилось, не мне одному было странно об этом думать. Ни одного зарубежного «Избранного» Шкапской ее дочь не получила. Никто не писал ей писем с вопросами о матери. Никто не обращался с вопросами насчет авторских прав. За перепечатки материнских стихов она не получала ни копейки. И сама она, кажется, давно смирилась с тем, что мать ее – забытая очеркистка, рукописи которой не имеют большой ценности. Только в семидесятые взялась она за сбор сведений и разбор остатков архива (большую часть которого Шкапская еще при жизни продала в ЦГАЛИ; заплатили ей, конечно, не столько за ее стихи и альбомы, которые мало кого тогда интересовали, сколько за хранившиеся у нее автографы Горького и многих других, кто в начале двадцатых считал ее первым поэтом). Светлана Глебовна Шкапская, младшая дочь Марии Михайловны, по профессии не литературовед. Она геолог. И между тем ее статья – лучшее и самое полное, что пока написано о Шкапской; написано – и не напечатано.
Жизнь Марии Шкапской – роман, и страшный роман. Тут было все – любовь, смерть, безумие, нищета, прижизненное забвение. Она родилась в Петербурге 3 октября 1891 года, старшим ребенком в полунищей семье. Отец – русский, Михаил Андреевский, из священников, мелкий чиновник в Министерстве земледелия; мать – такая же чистокровная немка, дочь скрипача Мариинского театра. После Шкапской родилось еще четверо детей, и нищета была такая, что с одиннадцати лет Мария стала в семье едва ли не главной кормилицей. Мать лежала в параличе, отец медленно сходил с ума. Мария стирала белье, занималась перепиской, случалось – и рылась в помойках Петербургской стороны. Все это время она за казенный счет училась в Петровской гимназии и уже в старших классах ее – что при хронической нищете и бурном темпераменте вполне объяснимо – ходила в революционные кружки. Любимым ее поэтом был тогда Надсон, и писала она исключительно «под Надсона», хотя вместо его благозвучной и стыдливой слезливости у нее уже и в отроческих стихах много бесстыдного надрыва. До жалоб она не опускалась и тогда: двенадцатилетняя Шкапская написала довольно страшные для девочки ее возраста стихи, в которых утверждала, что «В миру есть место лишь бойцам». Отчасти это был приговор себе – но бойцом она таки стала, иначе не состоялась бы.
В 1910 году она окончила гимназию и одновременно впервые напечаталась как поэт – в «Псковской жизни» появилось ее стихотворение на смерть Льва Толстого (правда, еще летом она в «Нарвском листе» напечатала сказку, в прозе). В том же десятом году она вышла замуж: за Глеба Шкапского, с которым и прожила сорок два трудных года, до самой смерти (впрочем, единственной любовью ее жизни он не был – и быть не мог,- но возвращалась она всегда к нему). Год спустя она поступила на медицинский факультет Петербургского психоневрологического института; выбор этот был предопределен тем, что отец ее в последние годы жизни страдал от тяжелой душевной болезни и в начале десятых годов был помещен в психиатрическую клинику. Безумие было родовым проклятием Шкапской. В автобиографии она писала:
«Очень тяжелая наследственность по мужской линии в смысле душевных заболеваний, обеспечивающих большое внутреннее горение в первой половине жизни и мучительную и трагическую гибель – в конце».
Ясно, что это скорее о себе, чем о предках. Вскоре ее с мужем выслали из России за участие в известном «витмеровском кружке»: так Шкапская попала в Париж.
Выслать «витмеровцев», по идее, собирались в Олонецкую губернию, но вмешался московский миллионер Шахов, предложивший оплатить их дальнейшее обучение за границей. Кровавый царский режим на это охотно пошел. Полагаю, именно здесь Шкапская впервые усомнилась в справедливости революционного дела – очень уж мягко оказалось наказание; по мазохистскому и страстному своему характеру она уже готовилась пострадать, но вместо каторги или олонецкой ссылки оказалась в столице мира. Шахов высылал стипендию, хоть и скудную; Шкапская изучала в Сорбонне восточные языки, слушала курс филологии, а когда началась война 1914 года и деньги из России приходить перестали – стала зарабатывать чем попало, вплоть до торговли афишами на Монмартре. В Бретани она выходила с рыбаками в море, ловила креветок; нанималась на виноградники. Стихи ее тех, парижских, лет вполне заурядны, если сравнить их с послереволюционными, хотя, когда она собрала их в книгу, ее доброжелательным предисловием снабдила сама Зинаида Гиппиус. Привлекает тут непосредственная, почти разговорная интонация – и ощущение какой-то искусственной замкнутости: почти все стихотворения кольцуются. Она берет тему – но, едва начав ее развивать, тут же замыкает вещь, возвращаясь к началу, словно боясь выпрыгнуть из собственных, заранее очерченных границ. Оболочка эта, как и классическая строфика, в последних стихах трещит по швам,- и так же трещала по швам ее жизнь и жизнь вокруг нее. «Приходит белый листочек с наколотым танцем слов, и прячется между строчек колючий блеск катастроф» – это уже вполне стихи, и это первая наметка ее главной будущей темы, темы крушения и распада как естественной среды.
В шестнадцатом году ей разрешили вернуться. Некоторое время она поработала разъездным корреспондентом в «Дне», а революцию и гражданскую войну встретила у родни мужа, в Новочеркасске. Было у нее к тому моменту двое сыновей, один грудной; мемуаристы вспоминают ее как высокую, ширококостую, моложавую, выглядевшую девушкой и в двадцать пять лет, с ярко-голубыми глазами и нежным румянцем. Витальная сила ее была поразительна – вот где подлинная двужильность. Когда Красная Армия освободила Дон, Шкапская немедленно вернулась в Питер, занималась там организацией карточного снабжения и писала стихи.
Стихи эти, в рукописи, она подала в Союз поэтов и была немедленно принята. Блок назвал ее опыты «живыми и своеобразными»; Михаил Кузмин нашел их чересчур физиологичными (странно, вообще говоря, слышать подобное от автора полупорнографических «Крыльев»,- но, вероятно, непристойной Кузмину казалась только ЖЕНСКАЯ физиология). «За» высказался и Лозинский. Вскоре ее как превосходного организатора избрали и в президиум Союза поэтов, но оттуда она вышла вслед за Блоком после конфликта с Гумилевым, чрезвычайно увлекавшимся организационной стороной дела, созданием собственной школы и вообще всем, что принято презрительно называть «литературной политикой» (ах, если б Гумилев меньше любил это занятие! Может, и жив был бы…). В двадцать третьем году, уже будучи автором трех книг (две выдержали несколько переизданий и вызвали бурную полемику в критике), она вступила в Петроградское отделение Всероссийского союза писателей.
О тогдашней ее поэзии написано теперь много – к сожалению, опять-таки почти исключительно за границей, хотя в последнее время имя Шкапской попадает в учебники и антологии, на нее ссылаются, ею интересуются. И все-таки ее знают гораздо меньше, чем, например, довольно неровного поэта Софию Парнок, которой повезло быть суровой и непримиримой лесбиянкой, подругой Цветаевой и антропософкой вдобавок. У антропософов вообще с полом были какие-то сложные и напряженные отношения, но это к слову. Гаспаров в предисловии к упомянутому единственному «Избранному» Шкапской, в статье, которая, по-моему, тоже слишком сдержанна и осторожна,- пишет, что о стихах ее упоминать как бы не принято. И то сказать, это не самое приятное чтение. Тут много крови, много физиологии, местами прямо пахнет,- один салонный критик так и выразился в приватной беседе: «менструальная поэзия». Замечу, что кровь – всегда кровь, откуда она ни теки; но и не в этом дело. Вообще трудно поверить, что эти стихи пишет та же самая женщина, которая начинала с народолюбивых надсонизмов, а продолжала довольно куртуазными, пастушеско-маркизными, хотя и очень изящными стихами французского периода. Тут сама история сработала на Шкапскую, счастливо (подчеркиваю это!) совпав с ее женской зрелостью. «До вас женщина так не говорила о себе»,- писал ей несколько прибалдевший Горький, которому, однако, вкус изменял только при оценке собственных сочинений – чужую одаренность он чувствовал безошибочно.
Разумеется, не Шкапская придумала писать стихи в строку. И К.Льдов, и в особенности Эренбург делали это охотно, и Шкапская вообще сильно подражала Эренбургу образца 1913-1915 годов… но лишь на уровне формы, и то недолго. Способ записи – его, он вообще много всего открыл и, не сумев толком использовать, бросил, обладая гениальным чутьем на новизну. Интуиция у него была сильней, больше таланта. Шкапская воспользовалась некоторыми его открытиями – и по праву присвоила их: сегодня короткое, в две-три строфы, исповедальное стихотворение, записанное прозой, выглядит ее фирменным знаком, авторской меткой, личным изобретением.