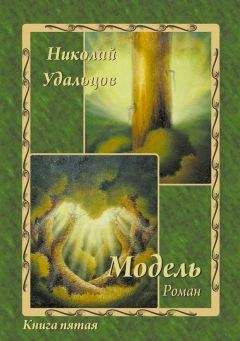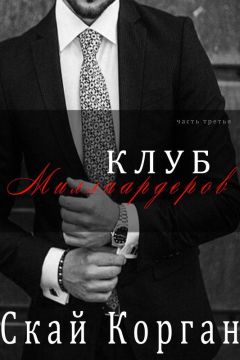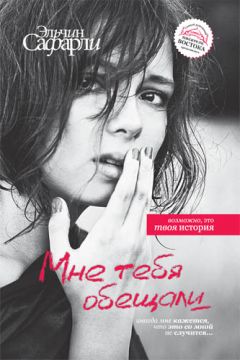Иоанна Хмелевская - Шутить и говорить я начала одновременно
С визгом и писком одна за другой покатились они с горы, а редко кто из них был в брюках. В те времена девицам было положено носить юбки, так что снег понабивался куда только было можно. Некоторые из туристок прекращали забаву на полпути, другие же и хотели бы, да не могли этого сделать и съезжали вниз уже форменными снежными бабами.
Одна расторопная девица завернулась в пластиковый дождевик, которые только что вошли в моду, и со свистом понеслась вниз. Внизу же снежный пласт заканчивался нагромождением громадных валунов и каменной россыпью.
Учитель стоял внизу и вне себя орал на все горы:
– Ты что делаешь, кретинка? Убьешься! Да тормози же, корова! Хлопцы, ловите ее!
Девица в дождевике мчалась вниз с обезумевшим видом, рассекая воздух, как ракета, и вопя от страха. Она явно потеряла голову и затормозить при всем желании не могла.
Пятеро наших парней побросали котлы и кинулись ей наперерез. Перехватили туристку, крепко вцепившись в нее, но остановить мчавшуюся на бешеной скорости ракету не сумели, как ни упирались в снег каблуками своих лыжных ботинок. Живописная группа катилась прямо на камни, правда, уже не с такой скоростью и в конце концов как-то остановилась. Спасенная от неминуемой смерти девица поднялась на ноги целая и невредимая, чего нельзя было сказать о ее плаще: сзади виднелась огромная дыра.
До сих пор не понимаю, как же получилось, что при всех таких превратностях судьбы и катаклизмах ни с одной из нас не только не произошло никакого несчастья, но даже никто не заболел. Никаких травм, даже простуд! Видимо, судьба берегла энтузиаста учителя и его подопечных.
Вернувшись с памятной экскурсии, я, неожиданно для себя, очень укрепила здоровье. А моя мать в это же самое время разрушила свое.
В моем случае помогла жара. Жара наступила еще в конце весны. Бытом, как я уже говорила, Силезия, ее промышленный регион. Из школы я возвращалась потная, взопревшая, вся разукрашенная темными пятнами и потеками, и сразу же лезла под душ. Теплой водой смывала с себя жирную сажу, грязь и пот, а потом для охлаждения окатывалась холодной. Одно удовольствие! Вечером процедура повторялась. И я настолько привыкла к холодным обливаниям, что без них уже не представляла купанья и дня не могла прожить. Лет пять обливалась холодной водой, тем самым исправляя идиотское воспитание в детстве с вечным кутаньем и перегревами. С тех пор до сегодняшнего дня я болела всего три раза, раз и навсегда избавившись от гриппов, ангин и простуд. Случалось мне жестоко страдать от холода – и не заболеть.
А моя мать в это же время умудрилась сделать нечто совершенно противоположное. Как я уже не раз упоминала, она чрезвычайно любила мороженое и могла есть его в чудовищных количествах. С Люциной и одним знакомым они отправились в кафе. Мать, естественно, потребовала мороженого. Люпина принялась заказывать ей порции одну за другой, наконец взбунтовалась и заявила, что не намерена разоряться из-за непомерных аппетитов сестры. Тогда мороженое для матери стал заказывать знакомый. Не могу понять, ведь взрослые же люди, как могли допустить такое? У всех троих случилось умственное затмение? Или просто было интересно, сколько мать в состоянии съесть? Наконец она угомонилась, почувствовав жуткую боль в горле. Воспалились миндалины и гайморова полость. Хроническое воспаление тянулось за матерью всю жизнь. Никогда больше она уже не могла есть мороженого.
( Позже, когда мы уже жили в Варшаве...)
Позже, когда мы уже жили в Варшаве, я неоднократно бывала у Люпины, оставшейся в Силезии. Поселилась она в Катовицах, в сорок пятом, и занялась культурой. Много времени отдавала она общественной работе с молодежью, занималась журналистикой, работала в редакции Польского радио.
Как известно, на Возвращенных землях Польское радио начиналось с нуля, и условия работы на нем были чрезвычайно примитивными. Многие передачи не записывались на пленку, шли прямо в эфир, например, трансляции всевозможных праздников и важных государственных мероприятий. Это приводило нередко к весьма забавным эффектам. Вот один из них. Головой ручаюсь, то, о чем сейчас расскажу, – чистая правда.
Открывая один из первых «Маршей мира», высокий партийный деятель произнес в микрофон на местном диалекте польского:
– Граждане и гражданки! Товарищи и товарки! Вы отправляетесь в этот осенний поход в честь Тадеуша Костюшки, который вместе с советской армией побил гитлеровского гада в битве под Грюнвальдом! [19]
Многие, в том числе и Люцина, по свежим следам записали текст выступления, и я его столько раз повторяла знакомым, что до сих пор помню дословно.
Или вот еще. Заканчивая первомайское выступление, оратор взволнованно воскликнул:
– А теперь разрешите мне провозгласить здравицу...
И из микрофона сначала оглушительно разнеслось над площадью:
– Бе-е-е!
А потом не менее оглушительная ругань предыдущего оратора:
– Пошла прочь, холера! Вон отсюда!
Легко догадаться, что к микрофону получила доступ одна из овец, пасшихся поблизости.
В Бытоме во время предвыборной камлании огромную витрину аптеки на центральной площади украсили три портрета кандидатов: Гомулки, Циранкевича и Осубки-Моравского. А под ними осталась на виду красочная аптечная надпись крупными буквами: СВЕЖИЕ ПИЯВКИ. Весь город сбегался посмотреть на необычное зрелище. Правда, аптеку на следующий же день прикрыли, а ее владельца увели в наручниках. А ведь он не нарочно остроумничал, просто портреты государственных деятелей опирались на бутыли со свежими пиявками, и подпись рекламировала их, а вовсе не уважаемых кандидатов. Пиявки сочли недостаточно декоративными, прикрыли портретами, а о подписи просто забыли. Чем же виноват владелец аптеки?
Другим зрелищным моментом в Бытоме, не столь рискованным политически, был бриллиант, выставленный в витрине ювелирного магазина. Опять же весь город сбегался любоваться на него, и я тоже. Бриллиант лежал на черном бархате. Не знаю, сколько уж в нем было каратов, но в диаметре он достигал не меньше сантиметра, а возможно, и больше. Стоил он полмиллиона злотых. Не знаю, на что сбегались смотреть: на драгоценность или бешеную цену.
Вообще-то в Бытоме у меня были очень неплохие бытовые условия. Впервые в моем распоряжении оказалась отдельная комната. Правда, мне часто приходилось делить ее с Люциной, которая то и дело наезжала к нам из Катовиц. Но уж лучше делить с кем-то свою комнату, чем вовсе не иметь ее. У меня было пианино, на котором я как-то сразу стала играть. Это вовсе не означало, что на меня снизошло музыкальное озарение или во мне вдруг прорезался талант. Ничего подобного, по-прежнему мой слух ничем не отличался от того, каким мог обладать первый встречный пень, но действовали зрительная память и чувство ритма. Мне наняли учительницу музыки, она проверила мой слух, убедилась в отсутствии оного и с большой неохотой взялась за сизифов труд. И вскоре с изумлением принялась допытываться у меня, почему я скрыла от нее, что уже училась музыке. Так и не поверила, что с фортепианной клавиатурой я имела дело лишь в годовалом возрасте, когда весело бегала в ботиночках по клавишам раскрытого рояля тети Яди.
Теперь я моментально запомнила ноты, соотнесла их с клавишами на инструменте. Запомнить зрительно, по какой клавише надо ударить, для меня не составляло проблемы, а ритм получался сам собой. Таким вот оригинальным образом я за три месяца прошла годовой курс обучения и была счастлива, но продолжить музыкальное образование у меня уже никогда больше не было возможности.
В Бытоме я первый раз была в опере, на «Травиате». До войны меня в оперу не водили. Помню, какое огромное впечатление произвело на меня и посещение первого настоящего кинотеатра, огромного, роскошного, совсем не пострадавшего от войны и ярко освещенного. Прямо явление из какого-то другого мира!
Закончив в Бытоме учебный год, я на каникулы поехала в родной Груец. Родители остались в Бытоме, я должна была туда вернуться в школу, но судьба распорядилась иначе.
В Груйце жили теперь только Тереса с бабушкой, дедушка умер. На каникулах я, желая подзаработать немного денег, стала работать продавщицей.
Предприимчивыми людьми были наши многолетние соседа по дому. Те самые, которые во время войны организовали производство порошка для выпечки «Альма». Правда, это предприятие давно лопнуло, но сразу же после войны соседка открыла магазин и взяла меня к себе продавщицей.
Магазин был продовольственным с самым широким и разнообразным ассортиментом. Продавалось в нем даже мороженое, тоже собственного производства. Изготовляли его с помощью примитивной машинки (тогда еще не было технического прогресса), и для того чтобы долгие часы крутить ручку чертовой машинки, специально нанимали сильного парня. Машинка состояла из двух частей. Металлический цилиндр, наполненный массой, которая потом превращалась в мороженое, помещался в стальную емкость с ручкой и крутящимся механизмом. Емкость наполнялась смесью льда с солью. От долгого кручения обе части машинки основательно смерзались, и для того, чтобы достать внутренний цилиндр с мороженым, весь агрегат приходилось долго катать по полу, пока обе его части не отделялись друг от друга. Как-то мы с парнем совсем измучились, катая проклятую машинку по тротуару у нашего магазина, и, возможно, немного переусердствовали. Когда извлекли наконец цилиндр, оказалось, что в него проникла замораживающая субстанция с солью. От прибавления соли клубничное мороженое на сметане с сахаром превратилось в продукт несъедобный. Срочно пришлось изготовлять следующую порцию. Мы же с парнем вдвоем съели испорченное мороженое, сняв с него верхний слой. В середину соль не проникла, и мы смогли оценить, чего лишились клиенты.