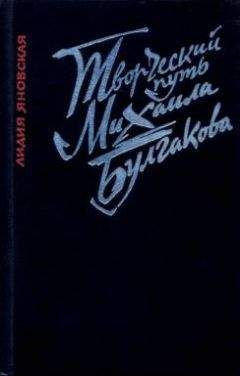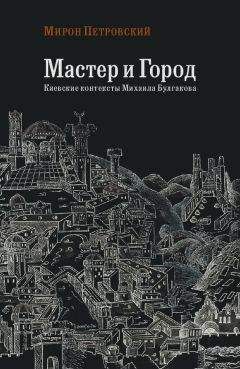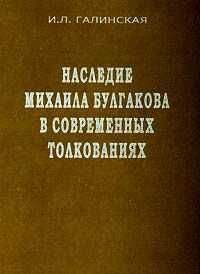Геннадий Смолин - Как отравили Булгакова. Яд для гения
По мере того как продолжалось мое исследование, я осознавал (сначала смутно, потом все отчетливее), что во мне что-то происходит, что-то меняется. Чтение и конспектирование поглощали меня целиком. Я начал быстро терять в весе, перестал спать. В ушах по-прежнему подзванивали какие-то звонки, зрение ухудшилось, появились мушки. Но я решил не обращать внимания на эти неприятности и довести дело до конца. На исходе третьей недели я приступил к систематизации фактов, которые к тому времени накопил, и засел за компьютер.
С жаждой узнать новое, до сих пор скрытое от людских глаз, я набросился на эту тему: «Булгаков». Мой опус «Исследование, или Жизнеописание М. А. Булгакова» перерос в болезнь, в навязчивую идэ-фикс. Чем больше я читал, тем меньше что-либо иное, кроме моих изысканий, значило для меня. Я постепенно утрачивал интерес к еде, хотя был разборчивым гурманом, совсем перестал смотреть телевизор, слушать радио, читать газеты. Почтальон регулярно засовывал мне под дверь письма, счета на коммунальные услуги. Нераспечатанные письма я бросал в ящик письменного стола, которые так и валялись в заклеенных конвертах.
На телефонные звонки я вначале откликался, нес замысловатую чепуху: мол, попал в аварию, повредил спину, теперь лечусь. Но вскоре перестал брать трубку, рассудив, что тот, кто хочет связаться со мной, вполне может обойтись без телефона. Нечего звонить – возьми и напиши! В конце концов, должно же дойти до людей, что дергание по всякому поводу причиняет мне, хворому, острую физическую боль! Постепенно звонки прекратились.
Единственный, с кем я хотел и пытался найти контакт, был Эдуард Хлысталов. Раз в несколько дней я звонил ему по телефону, договаривался о встрече и спрашивал, как продвигается очередное расследование. Поначалу тот относился к моим расспросам рассеянно-равнодушно, советовал не беспокоиться, заверял меня, что все идет своим чередом. Но после того как я потревожил его в четвертый или пятый раз, он начал проявлять признаки раздражения, и я счел за благо оставить человека в покое и подождать.
Я без конца перечитывал и дневниковые записи доктора Н. А. Захарова – домашнего врача Булгакова. Что-то в нем было такое, что завораживало меня. Похоже, подкоркой я стал улавливать некую суть, скрытую в эпистолярных текстах, но осмыслить ее так, с налета, увы, не смог. Я погружался в иное измерение, подчиняющее меня себе и отнюдь не иллюзорное, а напротив, куда более реальное, чем привычный для меня мир, куда более реальное, чем мир фантастики или фэнтези. Часто я просыпался среди ночи оттого, что в моей голове эхом звучали слова полковника МВД Э. А. Хлысталова: «Друг мой, я вам вручил не просто презент, а нечто более чем важное для изучения Мастера… Отныне на вас ложится серьезная, возможно, даже опасная для жизни миссия».
«Сыскарь» Хлысталов также стал объектом моего изучения. В Ленинской библиотеке я нашел его автобиографическую книгу «Убийство в „Англетере”». В ней Хлысталов не только повествовал о расследовании странного самоубийства поэта Сергея Есенина, но и рассказывал о перипетиях гибели знаковых людей России – священника Гапона, поэта Николая Гумилева, маршала Тухачевского. Докопаться до истины было его всепоглощающей страстью.
Еще в отрочестве Эдуард Александрович увлекся творчеством Булгакова и заинтересовался его биографией. Впоследствии он даже организовывал исполнение булгаковских произведений для широкой публики, привлекая артистов, музыкантов, историков.
Тема Булгаков подвела меня к идее: собрать как можно больше сведений не только о рано ушедшем великом писателе, но и о тех, кто был болен литературой и драматургией Мастера и им самим. Но главная моя задача оставалась прежней – разобраться в феномене человека и писателя Михаила Афанасьевича Булгакова.
В поисках информации я выбирался из квартиры и, словно челнок, сновал по Москве, охотясь за следующей порцией информации. Том за томом изучал я покрытые пылью забвения архивы и стеллажи с книгами Ленинской библиотеки, часами просиживал в душной читалке Булгаковского музея, зарываясь в минувшую эпоху, по крупицам выбирая сведения о Мастере. И понял, что машина мифотворчества и лжи была запущена и успешно работала еще при жизни Булгакова (что уж говорить о более поздних временах), искажая правду о великом писателе до неузнаваемости. Один из сочинителей живописал Мастера как жизнерадостного эпикурейца, имеющего, однако, амбиции и замашки аристократа, другой изображал его отшельником – чуть ли не изгоем, третий видел в Мастере прототип современного героя, с честью выходящего из любых переделок. Вересаев назвал Булгакова «человеком неиссякаемой силы духа». Один психоаналитик пишущий под псевдонимом, выпустил в свет опус, где анализировал запутанные отношения Мастера с его женами и доказывал, что Булгаков был чистейшей воды психопатом, снедаемым неотступной, яростной, ослепляющей ненавистью к старцам от режиссуры Станиславскому и Немировичу-Данченко, экспериментатору Мейерхольду и «трудовому графу» Алексею Николаевичу Толстому. Словом, что бы я ни прочитал, получалось, что для авторов, сочинявших байки о Булгакове, тот оказывался своеобразным экраном, на который они проецировали свои фантазии на политические, религиозные и прочие темы, имя которому был примитивный сальеризм. Согласно снайперскому выстрелу солнечного гения Пушкина с его шекспировским шедевром «Моцарт и Сальери» причина мытарств Мастера, а возможно и его гибель, была примитивной завистью своеобразного «коллективного Сальери».
Я пришел к выводу, что тема свободы в СССР возникала всякий раз, как только из небытия всплывал образ великого писателя Булгакова. Она, свобода, находила воплощение в самых причудливых формах, порожденных человеческим сознанием, и подчас приводила к самым неожиданным последствиям.
Бешеный успех «Дней Турбиных» не исцелил Булгакова. Так и не удалось изгнать бесов из его души. И вне всякого сомнения, это были бесы Булгакова. Я понял, что на протяжении семидесяти лет многие люди искренне верили в то, что роман Булгакова трансформировал в себе жуткую, сверхъестественную энергию, которую вполне можно было использовать в практических целях. Его книга будто бы порождена некой таинственной субстанцией, стремящейся донести до смертных свою волю. Возможно, она даже символизировала вселенское противостояние Света и Тьмы, Бога и Сатаны и противопоставление соответствующих ценностей, а также антагонизм тех сил, что за ними стояли.
В Советском Союзе книги и пьесы о Гражданской войне, а в особенности «Дни Турбиных» Булгакова, воспринимались как отображение классовой борьбы «белых» и «красных», богатых и бедных и окончательной победы класса пролетариата. Страшная энергия, носителем которой являлось творчество Булгакова, оказывала сильное воздействие на все слои общества.
От меня, остро чувствующего, где и что было с моим организмом и где и что болело, не ускользнуло то, что и Хлысталов, мужественный борец, в течение многих лет сражавшийся с трудностями и восхвалявший в литературных трудах своих любимых героев, испытывал те же мучения, что и я: от мигреней и болей в желудке до загадочных тяжелых расстройств нервной системы. Не обошлось и без подзванивания в ушах и частичной порчи зрения. Атаки недугов высосали из писателя силы, но это еще не все – у него временами мутился рассудок.
Ну а моя собственная жизнь шла своим странным чередом.
Раз в неделю, по понедельникам, в восемь двадцать утра я выбирался из своей квартиры, что находилась недалеко от метро ВДНХ, и пешком преодолевал расстояние в полтора километров – шел к своему лечащему врачу. Ее офис размещался в трех мрачных комнатах. Их стены красились в последний раз лет этак двадцать назад, предположительно в темно-коричневый и кремовый цвета. Теперь краска потрескалась и приобрела оттенок тусклой ржавчины. Я установил, что если хочешь сэкономить время, то в сие учреждение следовало являться к восьми тридцати утра, иначе есть все шансы застрять в отчаянно нудной очереди пациентов, желающих лицезреть волшебного гения медицины. А мне нельзя было надолго покидать Булгакова.
С каждым новым выходом в мир я тяготился им все больше и больше и всякий раз чувствовал огромное облегчение, когда возвращался в свою берлогу. Бросал выписанный эскулапом рецепт в ящик стола, а больничный лист клал в конверт, заклеивал и просовывал под дверь. Утром приходил почтальон и забирал конверт на почту.
Меня вообще ничто не могло потревожить, кроме моего исследования и отсутствия вестей от Эдуарда Хлысталова.
И вот как-то утром пришла-таки долгожданная весточка – открытка, написанная каллиграфическим почерком, так хорошо изученным мною. Именно этой рукой был выведен перевод послания, в тайну которого, как в бездну, рухнула моя жизнь. Но написано на открытке было совсем не то, что я ожидал. Я прочел: