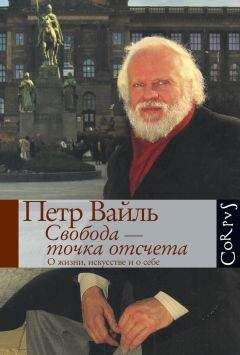Марина Цветаева - Рецензии на произведения Марины Цветаевой
И появление у нас такиx поэтов — знак, что наши силы не иссякли, что мы нужны:
Добровольная дань,
Здравствуй, добрая брань!
Еще жив — русский
Бог! Кто верует — встань!
Грянь,
Кружка о кружку!
Г. Адамович
Литературные заметки
<Отрывок>{74}
<…> Марина Цветаева написала две статьи, обе безмерно-восторженные. Одну о поэме Б.Пастернака,[294] другую о кн. С.Волконском.
Князь Волконский, как все знают, человек очень культурный, даровитый и умный, писатель сдержанный и спокойный. Не думаю, чтобы он мог без усмешки прочесть статью, в которой его ежеминутно сравнивают с Гете, с Лукрецием и бог весть с кем еще.
Не думаю, чтобы в нем вызвал добрые чувства этот кликушеский стиль, бесчисленные восклицательные знаки, многоточия, вскрики, скобки, вся эта претенциозная и совершенно пустая болтовня.
Марина Цветаева, как бы в свое оправдание, пишет в начале статьи от лица каких-то неведомых «нас»:
«Нас, кажется, уже ничем не потрясешь, — после великой фантасмагории Революции, с ее первыми-последними, последними-первыми, после четырехлетнего сна наяву, после черных кремлевских куполов и красных над Кремлем знамен, после саженного: „Господи, отелись!“ на стенах Страстного монастыря, после гробов, выдаваемых по 33-му талону карточки широкого потребления, после лавровых венков покойного композитора Ск<ряби>на, продаваемых семьей на рынке по фунтам…»
Это верно. Но после этих действительно потрясающих явлений менее всего способны взволновать или просто дойти до человека такие мелко-неврастенические записи. Есть какая-то фальшь и наивность в столь распространенном теперь стремлении отразить стилистическими судорогами катастрофы последних лет.
Надо очень любить стихи Цветаевой, чтобы простить ей ее прозу. Не могу не сознаться: я очень люблю стихи ее. Добрая половина цветаевских стихов никуда не годится, это совсем плохие вещи. У Цветаевой нет никакой выдержки: она пишет очень много, ничего не вынашивает, ничего не обдумывает, ничем не брезгует. Но все-таки ей — одной из немногих! — дан «песен дивный дар»[295] и редкий, соловьиный голос. Некоторые ее строчки, а иногда и целые стихотворения, совершенно неотразимы и полны глубокой прелести. Не хватает ей простоты. Пушкин писал жене: «Если будешь держать себя московской барышней, ей-ей разведусь», — цитирую по памяти, едва ли точно.[296] В Цветаевой очень много московской барышни. Не сомневаюсь, что это показалось бы ей упреком не существенным — эстетическим «возраженьицем». Но мне кажется, что это гибельный порок. <…>
Г. Адамович
Литературные беседы
[Цикл «Двое»]
<Отрывок>{75}
<…> Что с Мариной Цветаевой? Как объяснить ее последние стихотворения — набор слов, ряд невнятных выкриков, сцепление случайных и «кое-каких» строчек. Дарование поэта, столь несомненного, как Цветаева, не может иссякнуть и выдохнуться. Вероятно, она еще найдет себя. Но сейчас читать ее тяжело.
Цветаева никогда не была разборчива или взыскательна, она писала с налета, от нее иногда чуть-чуть веяло поэтической Вербицкой,[297] но ее спасала музыка. У нее нет, кажется, ни одного удавшегося стихотворения, но в каждом бывали упоительные строфы. А теперь она пишет стихи растерянные, бледные, пустые — как последние стихи Кузмина.[298] И метод тот же, и то же стремление скрыть за судорогой ритма, хаосом синтаксиса и тысячами восклицательных знаков усталость и безразличие «идущей на убыль души». <…>
Ю. Айхенвальд
Рец.: Марина Цветаева
Молодец: Сказка{76}
Сказка эта написана стихами и написана так, что ее трудно понять. Виною в этом не непонятливость читателя, а непонятливость книжки. Такого мнения держится, по-видимому, и сама сказочница; оттого она и приходит на помощь своему читателю в его затруднительном положении и в одном подстрочном примечании оговаривает: «относится к Марусе», а в другом подстрочном примечании оговаривает: «вопросы ее, ответы — бариновы». Эти пояснения необходимы, потому что текст сам за себя не говорит. Со стороны автора любезно такие пояснения давать, но мы предпочли бы ясность самого текста. Ведь сказка, сказка-складка особенно не имеет права требовать от нас напряжений, и хочется ее воспринимать легко, и хочется, чтобы она была проста и прозрачна. Недаром «Молодец» посвящен Борису Пастернаку, одному из темнейших поэтов современности. Но есть логика смысла и есть логика звуков. Если первая у Марины Цветаевой зачастую отсутствует или, по крайней мере, от читателя прячется, то вторая присуща нашей поэтессе вполне. Г-жа Цветаева роскошно купается в звуках, в стихии русского языка или чрезмерного русизма; и одни звуки у нее влекут за собою другие — с какою-то необходимостью. Таким образом, «Молодец» фонетически оправдан и часто слышишь и слушаешь с удовольствием его самодовлеющее звучание — например, такое: «что ж барин? бражничает? буйствует? шпажничает? жизнью небрежничает? с цветком нежничает; цвет мой — найденыш, жар мой в ладонях, князь мой затворник, красный поддонник». Если же, сверх звуков, вам хочется получить еще и смысловое наслаждение, то для этого изощрите все свое внимание и понимание.
В. Ходасевич
Заметки о стихах
М.Цветаева. Мóлодец{77}
Рассуждения о народности пушкинских сказок справедливы лишь до тех пор, пока речь идет о сюжете и смысле. По сюжету и смыслу они народны. По сюжету — хотя бы уж оттого, что, кажется, все они (за исключением «Сказки о золотом петушке») в этом отношении прямо заимствованы из народной литературы. По смыслу же — оттого, что вместе с сюжетом Пушкин почерпнул из народной сказки ее действующих лиц, столь же традиционных, как персонажи итальянской комедии масок, — и в своих переработках оставил их носителями тех же идей и переживаний, носителями которых они являются в подлинных созданиях народной массы.
Иначе обстоит дело со строением языка и стиха. Начать с того, что народная сказка, в отличие от былины и лирической песни, почти всегда, если не всегда, облечена в прозаическую форму. У Пушкина все его девять обработок сказочного сюжета — как раз стихотворные. Вдобавок, из этих девяти — только три («Сказка о попе», «Сказка о рыбаке и рыбке» да неоконченная сказка о медведях) по форме стиха в той или иной степени приближаются к образцам народного творчества. Из прочих — пять писаны чистопробнейшим книжным хореем, а шестая ямбом, да еще со строфикой, явно заимствованной из бюргеровой «Леноры»[299] («Жених»).
Так же, как размер стиха, язык пушкинской сказки в основе своей — тоже книжный; отмеченный всеми особенностями индивидуально-пушкинского стиля, он в общем восходит к литературному языку XIX века, а не к языку народного (или, как иногда выражался сам Пушкин, простонародного) творчества. То же надо сказать о преобладающих интонациях, о характерно-пушкинской инструментовке, наконец — о рифмовке, лишь изредка приближающейся к той, какую мы встречаем в настоящей народной поэзии.
Поэтому, если допустить, как это иногда делается, будто Пушкин в своих сказках хотел в точности воспроизвести народную словесность, то пришлось бы сказать, что из такого намерения у него ничего не вышло, что книжная литературность у него проступает на каждом шагу и сказки его надо не восхвалять, а резко осудить, как полнейший стилистический провал.
Но в том-то и дело, что Пушкин, почти всегда умевший осуществлять свои замыслы в совершенстве, не ошибся и на сей раз: то, что он хотел сделать, он сделал великолепно. Только сказки его не следует рассматривать как попытку в точности повторить стиль сказок народных. Пушкин не был и не хотел сойти за какого-то Баяна. Был он поэтом и литератором, деятелем книжной, «образованной» литературы, которую любил и которой служил всю жизнь. Как бы ни восхищался он «простонародной» поэзией, в его намерения не входило подражать ей слепо и безусловно. Конечно, в свои сказки он внес немало заимствований оттуда, но это сокровища, добытые во время экскурсий в область народного творчества и использованные по возвращении домой, в область литературы книжной. Пушкин отнюдь не гнался за тождеством своих созданий с народными. Он не пересаживал, а прививал: прививал росток народного творчества к дереву книжной литературы, выгоняя растение совершенно особого третьего стиля. В том и острота пушкинских сказок, что их основной стилистической тенденцией является сочетание разнороднейших элементов: прозаического народно-сказочного сюжета и некоторых частностей, заимствованных из стихотворного народно-песенного стиля — с основным стилем книжной поэзии. Законно ли такое сочетание? Удачно ли оно выполнено? — Только с этих двух точек зрения можно судить сказки Пушкина.