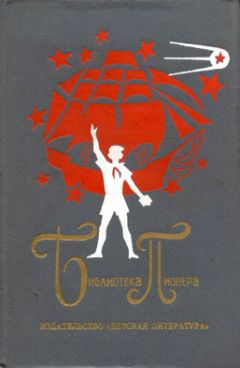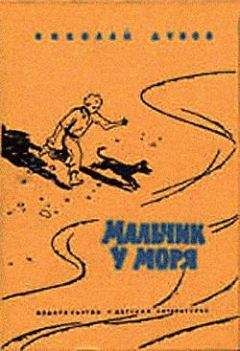Николай Дубов - Родные и близкие. Почему нужно знать античную мифологию
— Всё! — сказал он, отвалившись. — Наелся на неделю вперед. Спасибо тебе!
— А на здоровьечко. Шо ж бы вам ещё такое сделать?
— Если бы пару гвоздей да молоток, я бы себе палки приспособил, чтобы тебе больше меня не таскать.
— А есть! Десь у тата были и молоток, и гвозди…
Гвозди оказались погнутые и ржавые, молоток еле держался на рукоятке, но Шевелев всё-таки соорудил две палки с верхними поперечинами, чтобы удобно было опираться.
— Вот это — другой разговор, — сказал он и, опираясь на палки, сделал несколько шагов. — Э, так я тебе весь пол исковыряю…
От палок в глинобитном полу остались углубления.
— Пхи! — ответила Марийка. — Шо ей, доливке, сделается? Глина и глина. Я всё одно каждую субботу её подмазываю. Так что колупайте, сколько хочете… Хотя вам теперь не ходить, а лежать надо. А то ж натомились и нога раненая… Вот только вам хочь бы трошки помыться. А то — вы не обижайтесь, дядечка! — такой вы грязнючий да страхолюдный, аж смотреть страшно… Ось поглядите сами.
Марийка метнулась в комнату, принесла маленькое зеркало. Заросшее многодневной щетиной лицо Шевелева от пыли и потеков пота стало черным, выделялись только белки глаз да зубы.
— Ну-ну, — сказал он. — Бандитская харя, и всё… Просто удивительно, что ты не заорала, когда меня увидела.
Марийка прыснула, но тут же прикусила нижнюю губу и уже серьезно сказала:
— Так я же сразу догадалась, шо вы наш красноармеец и ховаетесь от немцев.
— Пойдем во двор, — предложил Шевелев, — я там где-нибудь сяду, а ты мне сольешь.
— Не! — решительно сказала Марийка. — Шо то за мытье? Надо как следует, а то у вас и одежа вся от пота смердючая. Зараз я нагрею воды, и будете вы мыться по-настоящему. Вот тут. А то что ж вы, посреди двора голый стоять будете?
— Как же тут мыться? Болото будет.
— А в балии. Мы всегда в балии моемся. И никакого болота не будет, вот увидите.
Марийка принесла из сеней круглое деревянное корыто, похожее на срез огромной бочки, разожгла в печи огонь, натаскала в чугуны воды, потом надолго исчезла в комнате, что-то, приговаривая, перебирала и вернулась со слежавшимся холщовым бельем.
— Ось! — торжествуя, сказала она. — То когда тато померли, то я все после них перестирала и сложила в сундук — хай лежит, хлеба не просит. А оно вот и сгодилось… Ну, вода уже горячая, раздевайтесь, дядечка Михаиле, и будем мыться.
— Как это — будем? Ты воду поставь и уходи. Я сам.
— Да шо вы сами можете? А кто вам спину потрет? А кто обольет потом? У вас же нога раненая, шо ж вы, как черногуз[11], будете на одной ноге стоять? И одной рукой мыться? Что ж то будет за мытье? Только грязь размазывать?.. Да вы что, меня стыдаетесь, чи шо? А от если б вы в лазарете были, кто бы вас мыл? Всё одно сестра, только что медицинская. Так я в школе всегда санитаркой была, с отакенной сумкой и с красным крестом… Или вы думаете, что я не умею? А я умею. Когда тато хворали, я всегда мыться им помогала. И что ж тут такого?
— То был отец, — сказал Шевелев.
— Так вы же, дядечка, тоже старый… И шо ж делать, если вы такой бедный и пораненный? Ну шо вы сидите и думаете? Так и вода остынет…
«Черт с ним, в конце концов, — подумал Шевелев. — Я для неё не мужчина, она для меня не женщина… Неизвестно, когда ещё подвернется такой случай. И подвернется ли?..»
— Хорошо, — сказал он. — Будь по-твоему.
— Вот и добренько! — обрадовалась Марийка. — Вот я вам ставлю скамеечку: раздевайтесь и садитесь. Ну, все, что нужно, спереди вы сами помоете, а где вам не достать, там я буду.
И она принялась шуровать его рогожной мочалкой.
Марийкин отец был, как видно, ростом поменьше Шевелева — штаны и рукава рубахи оказались коротковатыми, но после пропыленной, пропотевшей формы показались ему верхом удобства и роскоши.
— Чистой тряпки у тебя не найдется? — спросил Шевелев. — Надо бы рану перевязать.
Марийка снова метнулась в комнату, там раздался треск разрываемой ткани, и она вернулась с широкими длинными полосами разорванной женской рубахи.
Шевелев задрал штанину, с трудом развязал намокший узел повязки, начал её разматывать, морщась и непроизвольно подергивая ногой от боли. Прикусив нижнюю губу, Марийка внимательно следила за его движениями, и каждый раз, когда нога Шевелева дергалась, в лице её мелькала тень, словно боль испытывала она сама.
Намокшая при купании повязка отходила довольно легко, и наконец открылась вспухшая, багровая, с рваными краями рана. Из неё сочилась сукровица.
— А маты божа! — в ужасе сказала побледневшая Марийка.
— Йода у тебя нет?
— Нема.
— А зеленки?
— Тоже нема.
— Ладно, как будет, так будет. — Шевелев туго обмотал рану лентами, которые Марийка скрутила в тугие валики, как бинты.
— А теперь идите, дядечка, и ложитесь, я вам постель уже приготовила.
В горнице, отделенной от кухни ситцевой занавеской, было так чисто, что сразу становилось очевидно: ею пользовались только по праздникам или не пользовались вовсе. В углу перед иконами Спаса и Богородицы горела лампадка. Здесь были сундук, лавы и стол домашней работы и старая-престарая кровать с никелированными шишками.
— Вот тут и ложитесь, — сказала Марийка, — кровать ещё мамино приданое, только матраца городского у нас нема, ну всё одно, я думаю, тут будет лучше, чем в той канаве, — и она прикусила губу, чтобы не прыснуть.
— Так ведь это твоё место, — сказал Шевелев. — Ты постели мне на полу, вот и всё.
— Чего это вы, пораненный, будете на полу валяться? А я тут совсем и не сплю, я вон — на печке…
Шевелев лег — взбитый сенник приятно зашуршал.
— Ну, спасибо тебе за всё, Марийка! Я прямо как второй раз на свет родился…
— От и хорошо! Лежите себе и отдыхайте…
Проснувшись, Шевелев встретился с Марийкой взглядом.
— Ой, слава богу! — сказала она. — Вы всё спите и спите… Я уже по хозяйству управилась и до бабки Палажки сбегала, а вы всё спите и спите. И так тихонько, что я уже думала: а ну как мой дядечка совсем помер? А он, слава богу, живой и здоровый.
— Живой. А что, Марийка, тато твой брился или бороду носил?
— Не, они только усы носили — вот такенные, а бороду брили.
— Так, может, после него и бритва осталась?
— А десь была… — Марийка подняла крышку сундука, порылась в нём. — Ось!
Бритва оказалась источенной и тупой. Шевелев попытался направить её на своем ремне, потом, отчаявшись, долго и мучительно соскребал с лица многодневную щетину. Марийка, убегавшая на леваду за козой, вернулась с подойником, поставила его на лавку и увидела бритого Шевелева.
— Э, дядечка, — сказала она, — а вы, оказывается, ничего себе. И совсем не такой уже и старый…
— Старый, Марийка, старый. В деды, может, и нет, а в отцы тебе гожусь…
— Ну да! Тато у меня были совсем старенькие, а вы ещё — ого! Ну, конечно, не парубок, но и не дед. Вы так — середка на половинку. А вот я вас как вылечу, то вы и совсем будете как казак… Ото ж я и бегала до бабки Палажки, взяла всё, что нужно, сейчас запарю, ночь оно постоит, а потом начну лечить, и вы у меня враз станете здоровенький…
— Что еще за бабка?
— А есть у нас такая древняя-древняя старушка. Она сама не помнит, сколько ей годов. У нас же тут ни доктора, ни фершала, вот она всех и лечит.
— Свяченой водой от всех болезней?
— А вы не смейтесь, дядечка Михайло! Там про все болезни я не знаю, а как у кого какая болячка, так она всем помогает. И не свяченой водой, а травами. Она по тем травам чистый академик, всё знает. Вот когда тато себе сокирою по ноге ударили, там така рана была — страх глядеть, а она дала какие-то корешки, травки, всё и заросло.
— Так ты ей и про меня сказала?
— Что я дурная, про вас рассказывать? Я сказала, что у тетки Насти, соседки моей, хлопчик на ржавый гвоздь напоролся, нога теперь у него распухла и гной идет… А сама Настя прийти не может, бо картошку копает. Набрехала три короба. Что она, проверять пойдет? Она така старенька, вся согнутая, со двора давно уже носа не высовывает…
Прикусив нижнюю губу, Марийка осторожно сняла самодельный бинт.
— Вот видите, уже и гной появился, — сокрушенно сказала она и, окунув тампон в буро-коричневый настой, начала промывать рану. — Ой, дядечка, — испугалась она, — тут же у вас какая-то железяка торчит…
— Осколок, наверно, — присмотревшись, сказал Шевелев.
— Так его ж вытянуть надо! Разве можно с железякой в ноге?
— Ну, не знаю… Минные осколки — подлая штука. Края рваные, потянешь — сосуд заденешь или нерв. Нет, без врача нельзя. Может, сам выйдет?
Марийка наложила тампон, пропитанный примочкой, забинтовала рану.
— Вот так и будем теперь. Бабка Палажка сказала, надо утром и вечером, бог даст и заживет.
Осколок не вышел, но гноя появлялось всё меньше, потом он исчез совсем, рана начала затягиваться.