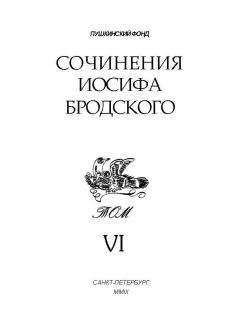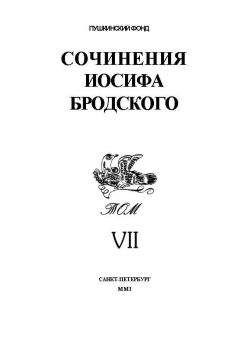Петр Вайль - Иосиф Бродский: труды и дни
— Когда вы с ним виделись в последний раз?
— Незадолго до смерти. Как раз перед Рождеством я останавливался в Нью-Йорке по пути в Англию. Мы договорились встретиться. Я уже несколько лет перевожу Заболоцкого. Иосиф Заболоцкого очень любил. Так и не написал о нем, хотя собирался. Я попросил его написать нечто в качестве предисловия к моим переводам. Он согласился. Так жаль, что не успел, было бы очень интересно почитать то, что он написал бы о Заболоцком. Итак, я ему позвонил. Он пытался уговорить “Фаррар, Страус и Жиру” издать эту книгу, но они не согласились. У него также были претензии к моим переводам. Ему казалось, что они приближаются к тому, что он счел бы приемлемым, хотя, как он выразился, они были слишком формальны... Он хотел со мной поработать, но нам удалось выкроить всего один день. Я приехал к нему в Бруклин, и мы проработали там весь день и весь вечер над первыми двадцатью строчками. Он говорил мне свои замечания, я печатал на его машинке, и он собирался продолжить эту работу. Собственно, он сказал: “Насчет этого вам надо связаться с Лосевым”[82]. На этом и закончили. Потом мы поужинали с ним и его женой, и я уехал. Я вернулся в свой отель на Уэст Сайд и начал читать только что вышедший сборник его эссе, который он мне подарил. Я прочитал два, включая посвященное памяти Спендера, которое мне показалось замечательным и глубоко меня тронуло. Я решил позвонить ему уже совсем поздно вечером, просто чтобы сказать ему, какое это замечательное сочинение. Он был очень доволен. Мы обменялись воспоминаниями о Спендере. Так я поговорил с ним в последний раз. Потом еще я послал ему письмо. Но ответа уже не было.
/Лондон 13 мая 1996/
/Перевод В.Полухиной/
Мемуары и заметки
Владимир Уфлянд. Чертоза /5-я легенда из многологии <<От поэта к мифу>>/
В 1930 году академик Иосиф Абгарович Орбели начал заказывать эрмитажным столярам ящики необычных размеров. Невероятно длинные и узкие. Или невероятно высокие. А то и ступенчатые.
Каково же было удивление сотрудников, когда в июне 1941 года для всех самых ценных экспонатов оказались готовы ящики точно по форме экспоната. Осталось только упаковать и вывезти за Урал. Академик Орбели знал, что будет в 1941 году.
После войны ящики с экспонатами привезли обратно. Картины и скульптуры развесили и расставили. А ящики сложили в Смольном соборе на том месте, где когда-то молились православные. Рабочие Эрмитажа, называемые оформителями, время от времени стряхивали с ящиков голубиный помет.
Один из оформителей, поэт Олег Охапкин, привел своего учителя поэта Иосифа Бродского в Смольный собор. Стряхивая с себя голубиный помет, оба поэта по лестницам и лестничкам взобрались на знаменитые купола, задуманные самим Франческо Растрелли. Иосифу Бродскому очень понравился вид с собора.
Штаб октябрьского восстания 1917 года был прямо внизу. За Невой стояла тюрьма Кресты. Почти напротив Крестов — Большой дом с внутренней тюрьмой.
С другой стороны собора гуляли студентки института иностранных языков и обитатели богадельни. В богадельне обитали сумасшедшие. Они сошли с ума от старости, или в результате Великой Отечественной войны, или блокады Ленинграда.
Иосиф подумал, что писать стихи и отдыхать лучше всего у центрального купола Собора во имя Воскресения Христова всех учебных заведений в память императрицы Марии Федоровны.
Белой ночью Иосиф пришел с раскладушкой и полез наверх. Он влез по внутренней лестнице на первый ярус крыши и уронил раскладушку, засмотревшись на Петербург.
Раскладушка упала на милиционера, охранявшего вход в обком ВЛКСМ, где многие друзья Иосифа получали в кассе деньги за произведения для пионерского журнала “Костер”. Милиционера увезла “скорая помощь”.
Пришлось слезть, взять раскладушку и снова взбираться на собор. Сумасшедшие из богадельни проснулись от сигналов “скорой помощи”. Увидев на первом ярусе крыши Иосифа, они стали бросать в него запеканкой с киселем, припрятанной в карманах с ужина. Запеканка то не долетала, то перелетала. Перелетев, она попадала в секретарей и инструкторов обкома КПСС, уходивших с работы как всегда заполночь. Кисель разбрызгивался по стеклам бывшего института благородных девиц, где с 1917 года действовал Штаб революции.
Милиционеры свистели, не понимая, откуда летят припасы. Они глядели во все стороны и облизывались. Но ни один не догадался взглянуть на купола. Фуражки мешали.
А между тем под самыми куполами можно было увидеть крошечную снизу фигуру поэта с раскладушкой на спине.
Когда Иосиф Бродский долез туда, где кончались лестницы, он вытер пот и очень удивился. Возле центрального купола уже стояли две разложенные раскладушки. На одной спал художник и резчик надписей на надгробных плитах Гарик Восков. На другой писал очередное стихотворение поэт и рабочий-оформитель Олег Охапкин.
— Се чертоза! — только и сказал Иосиф, повторив слова итальянца, восхищенного творением Франческо Растрелли.
Евгений Рейн. Мой экземпляр “Урании”
Передо мной темно-синяя книга слегка повышенного формата. На обложке белый шрифт — “Иосиф Бродский — Урания — Ардис” и рисунок — некое мифологическое существо, может быть, Зефир или Борей, раздувает щеки.
Издательские данные сообщают, что книга вышла в ноябре 1987 года. А была она мне подарена Бродским в октябре 1988. Даже известно, какого именно числа, — 4 октября. Это написано на книге.
Я прилетел в Нью-Йорк 18 сентября. Это был мой первый в жизни визит на Запад. В нью-йоркском аэропорту пришлось порядочно постоять в очереди к чиновнику паспортного контроля, потом долго тащиться с чемоданом по какому-то переходу. “А что, если меня не встретят? Или уйдут не дождавшись? Как быть? Я даже не умею здесь пользоваться телефоном-автоматом”, — думалось мне. Вот и холл, наполненный встречающими. Таблички с именами, выжидающие, напряженные лица. Вглядываюсь — меня никто не встречает. Надо сообразить, что делать дальше. Адрес у меня есть.
И вдруг, прямо над ухом: “Женюра, ну куда ты смотришь?!”
Передо мной стоит Иосиф.
Шестнадцать лет я его не видел и вот — не узнал. Он сильно переменился. Лицо стало как бы негативом того молодого, еще не окончательного облика, который я знал в шестидесятые—семидесятые годы. Волос больше нет. Круглые очки.
А рядом — красавица Ася Пекуровская. Осина и моя приятельница еще по Ленинграду. Вот она не изменилась ничуть.
На большом черном “мерседесе”. Иосиф повез меня к себе в Гринвич-Виллидж. В Нью-Йорке стояла прелая осенняя жара. Наконец-то я сбросил костюм, постоял под душем, влез в белые джинсы, майку. Через десять минут Иосиф сказал:
— Пойдем, нас уже ждут.
— Куда? Кто нас ждет?
— Ну вот увидишь. Едем в японский ресторан. Сырую рыбу с морковкой любишь?
— Да все равно.
Вглядываюсь из машины в эту теснину зеркальных лакированных стен, витрин, каких-то пестрых навесов, стометровых реклам. Не то чтобы не понимаю — даже не чувствую еще. Все это находится пока за порогом сознания, словно в предутреннем глубоком сне.
Ресторан, небольшие ниши, в них низкие столики с керамической посудой. Мы подсаживаемся к коротко остриженному, очень ладному человеку в темных очках. Мне кажется, что я его знаю, что когда-то видел. И действительно, ведь это Михаил Барышников.
Столик обрастает людьми, девушки щебечут, кто-то незнакомый назначает мне на другой день свидание в “Новом Русском Слове”. Сырую рыбу взять в рот невозможно, тепловатое сакэ — гораздо хуже нормальной русской водки. Но все замечательно. Иосиф возбужден, весел, ежеминутно шутит, переводит с английского, испанского (с нами сидит еще и испанская художница, по словам Иосифа, герцогиня, в общем, аристократка и красавица, хоть и в летах). Он переводит мои рассказы, хотя я и сам пытаюсь лепетать на некоем эсперанто. И мне кажется, что шестнадцать лет разлуки сошли с его лица, он помолодел на глазах, кинолента жизни открутилась назад.
И все прекрасно. Сакэ тоже можно пить, ресторан гудит, на эстраде японец играет на саксофоне, испанская герцогиня рассказывает о своем замке в окрестностях Саламанки, даже приглашает туда. И вдруг под парами этого благодушия возникает печальная мысль: поздно, поздно, ты опоздал, тебе пятьдесят три года. Привычно подыскивается рифма, и я говорю Иосифу, указывая на себя: