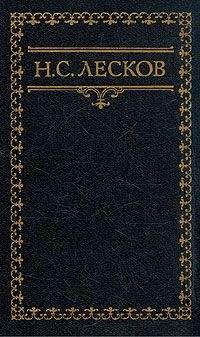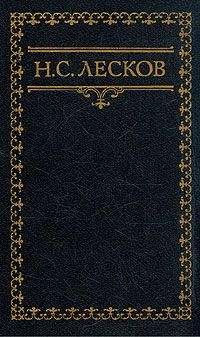Николай Лесков - Письма Н. Лескова (Сборник)
Пользуюсь случаем при этом просить Вас верить, что я действительно высоко ценю и уважаю Ваше имя.
Ваш покорный слуга
Н. Лесков.
П. К. Щебальскому
23 февраля 1875 г., Петербург.
Я почти такого ответа и ждал от Вас, уважаемый Петр Карлович, и ответ сей признаю справедливым, тем более что «грязная история», раскрываясь, обнаруживает такую тину, что от нее надо желать быть только подальше. Бобоша пал бесславно и низко и сносит свое падение со всей гадостью души мелкой и ничтожной, – визжит как высеченный щенок и не находит в себе сил обратиться к универсальному средству наших опальных дедов – сбежать в свои местности на Галиче и дать стихнуть мерзкому скандалу, доколе его заменит новый, еще мерзейший. Нет: он жалуется, что «взял не в том смысле, – не как взятку (или, по выражению покойного Н. И. Соловьева, „братку“), а как гонорар вперед за свое перо» … Понимаете, что все это делает его еще более жалким и смешным и ничему не помогает, но он все бьется устоять на этом и хлопочет, чтобы его «принимали». На 4-й день скандала он собрался в Москву к К<атко>ву, которому в эти дни писал 3 письма и 2 депеши и ни на письма, ни на депеши ответа не получил. Насколько меня спрашивали, я не советовал и ехать, тем более что ко мне явился кн. Ш<али>ков с предсказанием, что К<атко>в Бобку не примет. «Пусть-де прежде счистится». Однако он поехал, и вот уже неделя, как сидит там и все просится впустить, а тот ему не отвечает и к себе не пускает. Я говорил Ш<али>кову, что ведь, однако же, он сказывал М<ихаилу> Н<икифорови>чу большую преданность, – нельзя быть с ним чересчур суровым, но Ш<аликов>только сделал удивленные глаза и отвечал: «За что деньги заплочены»… Так этот Бобо и теперь там и пишет оттуда жене, что «надо туда совсем переехать», – все вероятно из того, чтобы встретиться с М<ихаилом> Н<икифоровлчем>хоть на бульваре и броситься ему в ноги (что Бобо, несомненно, желает и что привести в исполнение может). Еничку напрасно сожалеете: его фонды стоят высоко, и его во всем оправдывают: «его-де вывели из терпения». Он давно расстроился со своим антрепренером и, прекратив с ним свидания, начал ссылаться письмами: в этой-то корреспонденции и вскрылось все дело. Б<айма>ков написал в одном письме, что он не может отдать К<ат>кову газету за 120 т., потому что кроме сих 120 он «дал обязательство выплатить 50 т. одному известному лицу в министерство». Еничка списал с этого письма 4 копии и послал их одну К<атко>ву, одну гр. Т<отсто>му, в III отд., а четвертую – самому государю. Таким образом, все вдруг было обнято. Следствие (негласное) проводил Пот<ап>ов, и Бобо выгнан в 21 часа, со снятием с него даже придворного звания. Перед рассылкою сих депеш Енька держал совет с Феклистом и подозрительным нарцизом, которые «недоумевали, кто это известное лицо», и будто опасались, не наводит ли это тень на них, и присоветовали все вскрыть… Таким образом, за Христа невинного один Пилат умыл руки, а за проворовавшегося Бобу трое измылися. Теперь Б<айма>ков за этот месяц прислал Еньке вместо 500 р. – всего 150, прибавив, что и «это много». Оказывается, что у них никакого письменного условия нет; но как они развяжутся, – это интересно, ибо выражена высокая воля, чтобы Енька был укреплен на этом месте; Б<аймаков> же не отступается от газеты, если ему не возвратят его гласных и негласных расходов, всего 200 тысяч. Всего этого я не знал, когда писал Вам, а теперь с ужасом обоняю это смердящее болото и, конечно, не хотел бы видеть Вас в тумане его испарений. Бобо свое условие на 60 т. 12-тилетней аренды, разумеется, уничтожил и получит только 5 т. за первый год, но и в них дал расписку, которая представлена к делу. Желая выручить расписку, он дал Б<аймако>ву на 5 т. заречных векселей Кушелева, и Б<аймако>в векселя взял, а расписки не отдал и теперь по векселям взыскивает, и уже 1 т. взыскал. Общество выражает свое великолепное негодование, не разбирая, что оно негодует не на мерзость поступка, но на его глупую неловкость, и злорадство не пойманных плутов отвратительнее изловленного неумелого Бобки, который тем провинился, что вошел в сделку письменную, а не взял «братку» наличными и не свез их в банк… До чего все это отвратительно – рассказать Вам не могу: это падение заносчивого хлыща с его двухаршинной высоты взбуравило такие нравственные подонки общественных страстей, что мнится, не стоят ли уже какие-нибудь вестготы за шлиссельбургскою заставою вашего сгнившего Рима? Что за подлые и жестокие сердца! что за низкие умы! Теперь недостает, чтобы Боба, возвратись после своего московского сиденья, вскинулся на К<ат>кова и Т<ол>стого и начал вскрывать какие-либо их тайности. Приступ к этому он уже сделал и обнаружил, что К<атко>в хочет взять газету и Б<айма>кова и иметь Еньку своим петербургским приказчиком. Теперь остается это доказывать, – что и нетрудно. О фельетонистах тоже напрасно мечтать: всем редакциям «рекомендовано» ни одним словом не касаться этого дела, и «Голос» лишен права розничной продажи за самый отдаленный намек, заключающийся в словах: «мы, граф С<алиас>, не рапортуем там, где Вы рапортуете». Светские люди из кружка чистого гадливо молчат или говорят, что «М<аркеви>ч сделал для „Петербургских ведомостей“ – то самое, что он делал всегда для „Московских ведомостей“, то есть продал министерство Б<аймакову>, как продавал его К<атк>ову». Правды тут, разумеется, мало, но нечто к делу идущее есть. О двухклассных школах сейчас ничего Вам не могу сообщить и сомневаюсь: есть ли их правила напечатанные? По крайней мере мы их очень недавно еще обсуживали, и я не думаю, чтобы они были уже готовы. Вашим всем кланяюсь. Внимания «Р<усского> вестн<ика>» к себе не заметил и не надеюсь его заметить. Будьте здоровы и долгоденственны.
Ваш Л.
P. S. Над Енькою сбылась половина предсказания m-me Ленорман, записанное в «Некуда», – теперь должна исполниться вторая половина: он должен быть «первым министром».
И. С. Аксакову
1 марта 1875 г., Петербург.
Только хотел писать Вам о покровительствуемой Вами г-же Щепиной, как получил Ваше письмо, с которым не только вполне согласен, но даже уже и поступил таким образом. Кокорев приглашал меня на днях написать статью о Сиб<ирской> ж<елезной>дороге по северному направлению (в пользу сего последнего). Я взял бумаги, перечитал и убедился, что северное направление имеет за себя довольно много, но писать не стал: 1) потому что о сем уже слишком много написано, и пришлось бы только компилировать да рекламировать, a вo-2) потому, что К<окорев> хотел напечатать статью непременно в «Отеч<ественных> зап<исках>», в коих я участвовать не хочу, особенно же нахожу недостойным снабжать их моею работою под сурдинкою. Я обо всем этом отписал Кокореву откровенно и получил от него письмо тоже очень теплое и задушевное, в котором он просит меня не прощаться. Я его благодарил и ответил, что очень рад его знакомству; рад буду и работе, которая может случиться (особенно сопряженной с поездкою с описательной целью), но ни на что не напрашивался и отошел, как говорят, с «достоинством». На том дело наше и кончено. Я на него ни в малейшей претензии и думаю, что Вы не ошибетесь: он мне даже желает пригодиться, но ему не до меня. Мельница его не озабочивает: он свое (700 тысяч) получит, как собственник, не с двух обшеств, так с Овсяникова, но сей почтенный муж может иметь историю, которая способна пугнуть насчет географии… А как он был нескромно весел, когда утром на другой день при мне влетел в кабинет Кокорева с восклицанием: «А мы нынче блины пекли!.» О деле этом слухи самые мерзкие, но К<окоре>ва они нимало не марают и даже вовсе его не касаются. За совет и отличное истолкование моих опрометчивых слов усердно Вас благодарю и повторяю: я уже так и сделал, как Вы пишете. Делать «все, что потребуется», я разумел о роде занятий, то есть ездить, писать, с людьми говорить и т. п., но слава богу, что и я ему этого не сказал, и Вы тоже.
Редактор «Правосл<авного> обозр<ения>» был у меня на второй день маркевичевской истории, и при нем тут ко мне всё прибегали любопытные люди с вопросами, чту сей сон значит? Так что я не успел с ним путем перемолвиться. Я просил его зайти ко мне вечером, но он зашел опять на другой день в часы моего обыкновенного выхода на прогулку и опять меня не застал; между тем я хотел с ним побеседовать о тоне работы и вручить ему экземпляр нового издания «Захудалого рода», напечатанного с моей, а не с катковской рукописи, с тем чтобы он передал эту книжку Вам. Так это и не состоялось. – От Щепиной я получил письмо, по дамскому обыкновению без адреса, и потому не мог ей отвечать, хотя письмо ее, по моему мнению, требовало с моей стороны скорого и утешительного слова. Не откажитесь ей передать следующее: «Легкое чтение» рассматривал действительно я и докладывал его Комитету в заседании 7-го мая. Книга эта по представлению моему допущена в школьные библиотеки, но г-же Щепиной об этом не дано знать опять потому, что и в просьбе ее нет адреса, и потому департамент распорядился только напечатать об этом в министерском журнале. В каталог же се «Легкое чтение» будет включено, о чем она и получит теперь бумагу, которую я просил делопроизводителя послать по Вашему адресу. Новые книги г-жи Щепиной получены только на сих днях и переданы мне же: я их не задержу и, сколько можно, за них порадею. – Салиас не покидает своего с честью им занятого поста, а, напротив, укрепляется зело-зело: свыше внушено трем министрам упрочить его положение. Баймаков, говорят, в отчаянии и не знает, как его выжить? О новом редакторе нет и речи, и если бы Б<аймаков>стал об этом хлопотать, то все его хлопоты останутся втуне, доколе новый большой скандал не даст ходу дел иного направления. Здесь ругают Каткова за «жестокосердие», что он не принял Марковича, и ругают подло, зло и напрасно; напрасно же обвиняют его в том, что будто он хотел откупить за 120 тысяч «П<етербургские> вед<омости>» у Баймакова и держит Салиаса своим петербургским приказчиком. После побега Маркевича в Москву жена его просила меня просмотреть в беспорядке брошенную им переписку по этому делу, и я самоличным чтением убедился, что Катков этого не желал и даже был против передачи «Петербургских>ведомостей» в руки министерства. Салиаса выписали Феоктистов и Маркевич, которым он и обещал письмами из Женевы «никогда не забыть их добра» и при этом так прельщал их своим profession de foi:[11] «Я не красный, даже не розовый или белый, а скорее подхожу к лазурному, голубому, жандармскому». Это так сказано всеми словами, а Ф<еоктистов>и Марк<евич> сим цветом пленились. Письмо это ходило к начальству, которое его тоже пробовало, а ныне оно ходит по рукам публики и никакого секрета не составляет, почему я и пишу о нем. В обществе все не пойманные до сих пор взяточники и картежники ревниво стремятся заявлять свое великолепное негодование к неловкости М<аркевич> а и тем делают невозможным негодование более правильное. Катков едет сюда 3-го числа. Нужно ожидать еще большей игры.