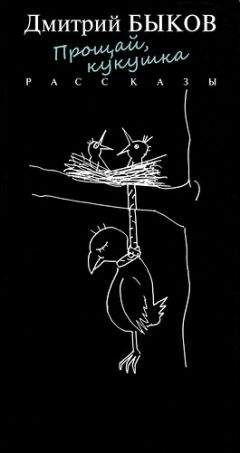Дмитрий Быков - Вместо жизни
Одного только он не смог. В насквозь фальшивой вещи – всего одна строчка о море, как бы (любимое катаевское «как бы» – короткая пауза перед прицельным сравнением) написанном на холсте еще не высохшими красками – синей и зеленой.
Больше там моря нет.
Принято было ругать «Алмазный мой венец». Дескать, ставит себя в один ряд с гениями и всячески их принижает.
На самом деле не могли простить одного: качества. Той силы любви и тоски, с которой эта вещь написана. Потому и приписывали зависть к Олеше или Булгакову; он им завидовал только в одном отношении – они уже были в вечности и, следовательно, неуязвимы. А он еще нет.
Но теперь и он там. И право его стоять с ними в одном ряду не подвергается сомнению. У человека был один грех – он слишком любил жизнь, слишком любовался ею; как всякий большой писатель, он из этого греха сделал инструмент, из травмы – тему, из страха и отчаяния – лирику высочайшей пробы. Уж подлинно «Алмазный мой венец»: лучше, мучительней этого он ничего не написал. Все там живые, все настоящие.
Хотя я, конечно, выше всего ставлю «Траву забвенья», потому что именно в ней – бунинская пепельница, которую постаревшая вдова Бунина, Вера Николаевна, хотела ему подарить.
Он не осмелился взять.
По-моему, зря.
Эта крошечная чашечка, которая тогда, в Одессе девятнадцатого года, казалась ему пылающей изнутри, вечно начищенной,- теперь почерневшая и как бы съежившаяся.
«Ты, сердце, полное огня и аромата, не забывай о ней. До черноты сгори».
Это он цитирует в финале. Господи, сколько стихов узнали мы от него! И не только Мандельштама – «Играй же на разрыв аорты, с кошачьей головой во рту»: это бы мы как-нибудь и без него знали. Но Семена Кесельмана, гениального одессита, умершего своей смертью до войны (Катаев полагал, что он погиб во время оккупации), мы знаем лишь благодаря ему – он выведен в «Венце» под именем эскесса.
И мы можем теперь повторять, глядя на осеннее море:
«Прибой утих. Молите Бога, чтоб был обилен ваш улов. Трудна и пениста дорога по мутной зелени валов. Все холодней, все позже зори. Плывет сентябрь по облакам. Какие сны в открытом море приснятся бедным рыбакам? Опасны пропасти морские. Но знает кормчий ваш седой, что ходят по морю святые и носят звезды над водой…»
Боже, какой озноб по всему телу, какое нечеловеческое счастье, какой зеленый вечер над коричневым морем. Зачем они все уехали из Одессы?
По сравнению с этим вполне ничтожны его общественные проступки и заслуги. Создал «Юность» – спасибо. Печатал Аксенова и Гладилина, Вознесенского и Евтушенко, молодую оттепельную публицистику – спасибо вдвойне. Выступал с официозными речами и интервью, проголосовал за исключение Чуковской из Союза писателей, подписал письмо против Солженицына – ладно, не этим будет памятен.
«Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона». «Алмазный мой венец». «Уже написан Вертер». «Белеет парус одинокий». И даже «Цветик-семицветик». Лети, лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг,- лишь коснешься ты земли, быть по-моему вели. Это заклинание повторяет сейчас и мой четырехлетний сын.
Вели, чтобы мальчик Валя Катаев был сейчас в своей счастливой, ленивой, ослепительной предреволюционной Одессе, чтобы друзья хвалили его стихи и чтобы все гимназистки были его.
2003 год
Дмитрий Быков
Я проживу
Поэт и время находятся в более сложных и трагических отношениях, чем принято думать; не обращают на тебя внимания – плохо, обращают – еще хуже. Советскому поэту труднее всего было в шестидесятые, когда вся страна смотрела на него в оба и тем непозволительно развращала, когда в силу этого внелитературные обстоятельства становились важнее литературных и качество текста в конечном итоге можно было игнорировать. Белла Ахмадулина – едва ли не самая красивая женщина в русской литературе XX века, наделенная к тому же знаменитым хрустальным голосом. В поэзию с такими данными входить опасно. Особенно в эстрадный ее период, когда поэта больше слушают, чем читают, и с большим интересом следят за динамикой его браков, нежели за темпами собственно литературного роста.
Этим и объясняется тот факт, что Белла Ахмадулина – персонаж не столько родной литературы, сколько общественного сознания, адресат бесчисленных читательских писем, объект либо нерассуждающих восхищений, либо гнусных сплетен, но не обстоятельных разборов. Женщины с незадавшейся личной жизнью, любительницы ЭСКЮССТВА, своими захлебывающимися и безвкусными хвалами совершенно засахарили поэзию Ахмадулиной. Очень красивая женщина, пишущая очень красивые стихи,- вот ходячее определение. Подлили масла в огонь два ее пишущих мужа – покойный Нагибин и здравствующий, дай Бог ему здоровья, Евтушенко. Нагибин успел перед смертью сдать в печать свой дневник, где вывел Беллу Ахатовну под неслучайным псевдонимом Гелла, и мы узнали о перипетиях их бурного романа. В свою очередь Евтушенко поведал о первом браке Б.А.- браке с собою – и о том, как эта во всех отношениях утонченная красавица энергично морила клопов. И хотя в дневнике Нагибина полно жутких, запредельно откровенных подробностей, а в романе Евтушенко «Не умирай прежде смерти» – масса восторженных эпитетов и сплошное прокламированное преклонение, разница в масштабах личностей и дарований дает себя знать: пьяная, полубезумная, поневоле порочная Гелла у Нагибина – неотразимо привлекательна, даже когда невыносима, а эфирная Белла у Евтушенко слащава и пошла до полной неузнаваемости. Любовь, даже оскорбленная, даже переродившаяся в ненависть, все же дает сто очков вперед самому искреннему самолюбованию.
Но мы опять не о стихах.
В России, думаю, найдется немного людей, знающих наизусть хоть одно стихотворение Ахмадулиной (о поэтах речи нет, поэты не люди). Вызвано это отчасти тем, что она не писала детских стихов (а именно по ним массовый читатель лучше всего знает, например, Юнну Мориц, поэта огромного и сложного), отчасти же тем, что стихи Ахмадулиной попросту трудно запоминаются – в силу своей пространности, лексической сложности и определенной водянистости. Конечно, почти каждая провинциальная библиотекарша (из тех, которые зябко кутаются в шали и пишут письма писателям) знает наизусть «По улице моей который год» и «А напоследок я скажу» – исключительно благодаря Эльдару Рязанову. Лично я всегда помню песню «Не знаю я, известно ль вам, что я певец прекрасных дам» – «Что будет, то будет» из «Достояния республики», едва ли не самое изящное и внятное стихотворение Ахмадулинои тех времен. Остальных ее текстов даже я, знающий наизусть тысячи две стихотворений, при всем желании не упомню. А ведь именно запоминаемость, заразительная энергия, радость произнесения вслух – вот главные достоинства поэтического текста, по крайней мере внешние. Поди не запомни Бродского, ту же Мориц, лучшие тексты Окуджавы! Запоминаются лучше всего те стихи, в которых все слова обязательны,- необязательные проскакивают. Из Ахмадулинои помнятся строфы, иногда двустишия:
Например:
Но перед тем, как мною ведать,
Вам следует меня убить!
Или:
Не время ль уступить зиме,
С ее деревьями и мглою,
Чужое место на земле,
Некстати занятое мною?
Может быть, я выродок (хотя боюсь, что я-то как раз норма),- но я ищу в любом тексте прежде всего возможность самоидентификации, соотнесения его с собою, со своей (чаще) мукой и (реже) радостью. Человека всегда утешает и радует, что он не один такой. Подобные совпадения для читателя Ахмадулинои затруднены прежде всего потому, что тут многое аморфно, не названо, не сформулировано, безвольно… Последнее приведенное мною четверостишие, про чужое место на земле,- как раз редкое и прекрасное исключение: все стихотворение «Дождь и сад», которым оно замыкается, являет собою одну бесконечную длинноту, и даже взрыв заключительной строфы не окупает этой гигантской затраты поэтических средств, к тому же несколько однообразных. Не знаю, достоинство это или недостаток,- но всякое ахмадулинское избранное производит на редкость цельное впечатление: особого движения тут нет. То ли потому, что поэт не любит переиздавать свои ранние стихи, еще романтически-розовые от рассвета пятидесятых, то ли потому, что поэт всю жизнь верен себе, то ли потому, что он не развива… и я в ужасе прикрываю рот рукою. Достоинства ахмадулинских стихов менялись: к семидесятым они стали суше, трезвей, в них появилась фабульность, временами даже балладность,- но недостатки оставались прежними: экзальтация (часто наигранная, путем самоподзавода), обилие романтических штампов, монотонность (везде пятистопный ямб), более-менее постоянный словарь, многословие и все та же водянистость… И ранняя, и поздняя Ахмадулина – при неоднократно декларированной любви – нет! обожании!- нет! преклонении!- перед Мандельштамом и Цветаевой, замешена все же на Пастернаке; и все грехи его ранней поэтики, весь захлеб и захлюп, которых он сам впоследствии стеснялся, вся экзальтация, все многословие – перекочевало в тексты Ахмадулиной: