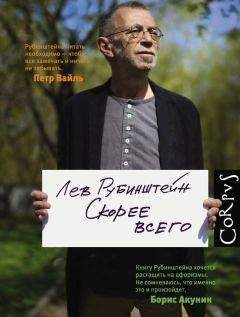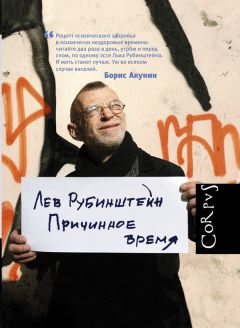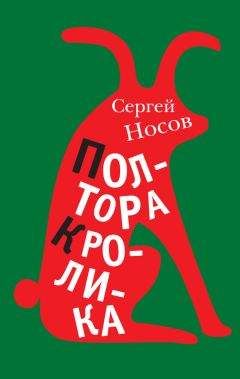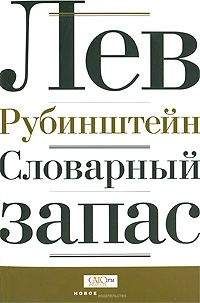Лев Рубинштейн - Знаки внимания (сборник)
Давно известно, что война — это гадость всегда, даже если ты воюешь за самые светлые идеалы, за дом, за родных, за свободу. Война убивает и калечит не только физически. Она калечит души и вывихивает мозги. Она мобилизует в людях самое в них подлое и темное. Но и самое благородное и геройское — тоже. Это война.
Две мамины тетки погибли в Бабьем Яру, потому что их выдала соседка, с которой они жили душа в душу много лет. А другая тетка в том же Киеве спаслась, потому что соседка сначала долго прятала ее в своем доме, а потом нашла возможность переправить к своим родственникам в деревню, и никто из деревенских (а в деревне ничего не скроешь) ее не выдал.
Было все.
А в 1970-е и 1980-е годы я почти каждый год ездил отдыхать в Эстонию, в маленький рыбацкий поселок на берегу моря. Я снимал веранду у одних и тех же хозяев. В довольно большом доме жила лишь пожилая пара, муж и жена. Они мне напоминали о «Сказке о рыбаке и рыбке». Прежде всего тем, что старик вечно чинил невод, а старуха хотя и не пряла свою пряжу, но зато день-деньской пилила своего мужа. Пилила она его, естественно, по-эстонски, а то, что она его именно пилила, я мог определить по выражению его лица — то виноватому, то раздосадованному.
Старик целыми днями молчал и даже отвечал на приветствия как-то довольно хмуро. Сначала я решил, что он меня за что-то недолюбливает. Потом я понял, что он вообще такой.
Все будние дни он в полном молчании возился с сетями, зато в пятницу вечером от души напивался. Напившись, он запрягал лошадь и со страшным грохотом катал ребятишек по главной улице поселка. Потом возвращался домой, садился на скамеечку и громко пел, причем на удивление прилично. Старуха, проходя мимо, лишь горестно вздыхала. Потом он с бутылью мутного самогона в руке стучался в мою дверь, я его впускал, он садился, наливал в два стакана страшной дряни и на неожиданно чистом русском языке начинал рассказывать про Сибирь. Каждый эпизод своего нескончаемого рассказа, как правило, очень страшный, он заканчивал одинаково: «Ты ни при чем».
Я и сам знал, что я вроде как ни при чем, но взглянуть ему в глаза мне было довольно трудно.
Потом приходила старуха, что-то ему выговаривала и, извинившись передо мной за беспокойство, уводила его спать. Он что-то еще немножко кричал и пел, скорее для порядка, чем по зову души, после чего затихал.
Насколько бы рано ни удавалось мне проснуться на следующий день, он всегда сидел возле своего сарая и в полном молчании штопал сеть. На мое бодрое tere! он реагировал лишь хмурым коротким кивком.
В один из дней кто-то из отдыхающих шепнул мне, что во время войны мой хозяин, тогда еще почти мальчишка, пошел воевать на стороне немцев. Как и многие парни из тех мест. Выбора у них не было. Не за Красную же армию им воевать, если практически в каждой семье кто-нибудь был отправлен по этапу в Сибирь. Ну а потом, после войны, в Сибирь отправился и он.
В ближайшую пятницу все было как обычно. Старик напился, запряг лошадь, покатал детей по улицам поселка, попел, а потом пришел ко мне с заветной бутылью. И снова он рассказывал мне страшные сибирские истории. И снова закончил свое повествование словами «Ты ни при чем». В этот раз я все-таки решился взглянуть ему в глаза и сказал: «Ты тоже».
Мойдодыр
Когда мне было года четыре, родители иногда развлекали мною гостей. Под преувеличенно бурные рукоплескания меня понадежнее устанавливали на табурете, с которого я — без запинки и ничуть не конфузясь — с выражением читал «Мойдодыр». Теперь, кстати, не смог бы полностью. А тогда — пожалуйста. Была еще в моем тогдашнем репертуаре песня «Летят перелетные птицы». Взрослых почему-то страшно забавляло, когда я сообщал городу и миру о том, что мне не нужны ни берег турецкий, ни Африка. Про берег турецкий мне сказать было особенно нечего, а вот Африка была мне хорошо знакома — туда, в соответствии с настойчивым советом все того же дедушки Корнея, детям не полагалось ходить гулять.
Но гвоздем программы был все-таки «Мойдодыр».
И любопытно, что я почему-то долгое время ничуть не задумывался о значении самого слова «мойдодыр», по звучанию напоминавшего мне одно из непонятных, но привлекательных, как и все непонятное, татарских слов, регулярно слышимых мною в нашем дворе.
Чуть позже пришло озарение, и я как-то своим собственным умом допер, что речь идет всего лишь о дырах, до появления которых рекомендуется мыть, тереть и скрести свое бренное неповторимое тело. А душу? Нет, об этих метафизических предметах я еще не умел размышлять тогда.
Эх, дыры, дыры.
Дыра как одна из наиболее емких и универсальных метафор нашей жизни и нашей истории ведет нас, как говорится, по жизни. И пожалуйста, не надо без толку тревожить и без того беспокойный сон венского доктора, ибо, как всем известно, банан во сне вполне может означать лишь себя самого и более ничего. То же и с дырой. Не «та» дыра — другая.
Я хорошо запомнил один из вечеров середины 1980-х годов. Тогда полупризрачные вожди один за другим покидали историческую сцену, не успев даже толком раскланяться, а морок и абсурд окружавшей нас реальности уже воспринимались почти на уровне тактильных и обонятельных ощущений. Мы, то есть два-три моих приятеля и я, сидели на кухне у одного из нас и говорили о том, что нам, в сущности, необычайно повезло. Мы даже, если угодно, можем гордиться тем, что нам выпала непростая, но почетная доля оказаться в самой сердцевине мирового гнойника. И ничего, живы и даже способны рассуждать и, главное, свидетельствовать. И говорили мы, что свидетельствование — это, может быть, и есть та самая миссия, каковая на нас возложена судьбой. И это далеко не самая худшая судьба. И вот ведь, говорили мы, расхаживаем мы как ни в чем не бывало буквально по кромке кратера, и вот сидим мы, беспечно болтая ногами, на самом краешке пресловутой черной дыры. И даже не боимся в нее заглянуть. И, в общем-то, счастливы. Хотя и вот же она — черная дыра.
Через год-полтора началась так называемая перестройка, и черная дыра стала постепенно, но заметно бледнеть. Зато при тускловатом, но уже отчетливом свете дня стали заметны на вытертом до дыр теле государства многочисленные дыры, дырки и дырочки, до поры до времени завешенные портретами вождей и плакатами, сообщавшими очумевшему от бесплодной погони за туалетной бумагой населению, что оно, население, вовсе не население, а — бери выше — народ, и народ этот един с партией. О как!
Очень важно понимать роль дыр в отечественной истории. Очень неправильно эту роль недооценивать. Далеко не все, но многие вещи объясняются именно этой тотальной и неизбывной дырявостью. Потому и не работало никогда в нашей стране то, что обычно называют системой. Государство во все времена пыталось то накачать страну воздухом, и тогда этот воздух со свистом вырывался наружу, то выкачать из страны воздух, и тогда преступный иноземный воздух стремительно врывался в наше пространство.
Сквозь дырки история утекала, но сквозь них же она и втекала.
Роль дырок можно считать столь же роковой, сколь и спасительной.
Вот, например, так называемый железный занавес, как, впрочем, и все остальное в нашей богооставленной стране, тоже был дыряв. Его штопали время от времени, а иногда и очень даже суровыми нитками, а новые дырки возникали в других местах.
Та же история и с глухими заборами, за которыми хоронились от постылого народа его слуги.
Когда «занавес» окончательно превратился в ажурные лохмотья, а высоченные заборы — в совершеннейшее решето, кончилась и советская власть — куда же ей без занавеса. И без забора.
Или взять, к примеру, пресловутую «чашу терпения народного» и патетический вопрос о том, почему она никогда не переполняется. А все потому же. И она безнадежно дырява, эта чаша. Да и не чаша она вовсе, а скорее дуршлаг. Этот вывод не слишком оптимистичен, понимаю. Но что делать, если это именно так?
Веками эта самая чаша может не переполняться, но лишь до той поры, пока ее многочисленные дырки не забьются наконец плотным слоем крови, пота, гноя, мокроты и прочих малоаппетитных выделений нашей небезоблачной истории. И тогда она, чаша сия, все-таки переполняется со всеми, извините за невольный каламбур, вытекающими последствиями. Поэтому — да минует нас…
Да, это бывает нечасто. Зато очень надолго запоминается.
Но запоминается, к счастью, не только это. Но и то, например, как маленький кудрявый мальчик в полосатом костюмчике стоит посреди счастливого, беспечного и шумного праздника на крепком довоенном табурете и с выражением декламирует «Мойдодыр».
Печально я гляжу
Скользя одним глазом по ровной поверхности одной из многочисленных интернетовских перебранок — разумеется, о главном, то есть о судьбах страны и человечества, — я вдруг споткнулся о показавшееся мне необычайно причудливым словосочетание «совки-диссиденты». Казалось бы, налицо явный оксюморон. Впрочем, из контекста стало ясно, что речь тут шла вовсе не о совокупности социальных убеждений, культурных ориентиров и нравственных ценностей, как это могло показаться вначале.