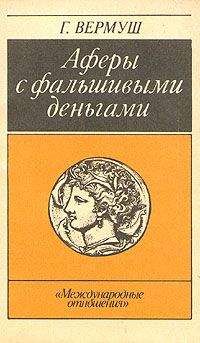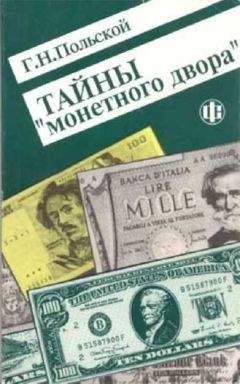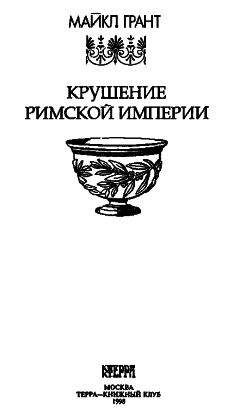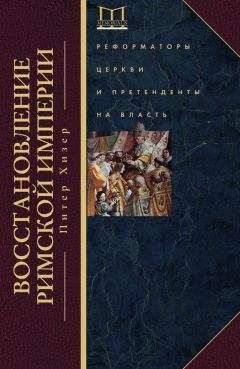Михаил Крепс - О поэзии Иосифа Бродского
Но то песок. Один густой песок.
И в нем трава (коснись -- обрежешь палец),
чей корень -- если б был -- давно иссох.
Она бредет с песком, трава-скиталец.
Ее ростки имеют бледный цвет.
И то сказать -- откуда брать ей соки?
В ней, как в песке, ни капли влаги нет.
На вкус она -- сродни лесной осоке.
Здесь же на метафорическом уровне шествие по пескам представляется в терминах плавания по морям -- частично отрывок этот -- развернутое метафорическое сравнение со сложными смысловыми ходами:
Кругом песок. Холмы песка. Поля.
Холмы песка. Нельзя их счесть, измерить.
Верней -- моря. Внизу, на дне, земля.
Но в это трудно верить, трудно верить.
И далее:
Волна пришла и вновь уходит вспять.
Как долгий разговор, смолкает сразу,
от берега отняв песчинку, пядь
остатком мысли -- нет, остатком фразы.
Но нет здесь брега, только мелкий след
двух путников рождает сходство с кромкой
песка прибрежной -- только сбоку нет
прибрежной пенной ленты, -- нет, хоть скромной.
Нет, здесь валы темны, светлы, черны.
Здесь море справа, слева, сзади, всюду.
И путники сии -- челны, челны,
вода глотает след, вздымает судно.
Путники -- лодки, барханы -- море, путь -- жизнь. Но кроме "низа" -песков, по которым шагают отец и сын, в их мире есть и "верх" -- небо, покрытое тучей, напоминающей лес. Этот лес как бы является отражением другого пейзажа, имеющего какое-то пока неясное отношение к реальному. В дальнейшем "небесный лес" будет поставлен в параллель к мрачным мыслям-предчувствиям Исаака и полностью раскроется в его вещем сне.
Поэма "Исаак и Авраам" отличается большой структурной сложностью. Библейский рассказ, драматизированный и дополненный многими несуществующими в каноническом тексте эпизодами, прерывается размышлениями третьего героя поэмы -- самого автора, пытающегося философски осмыслить ветхозаветное и связать его с настоящим. Связь между этими временами, данная формально посредством чередования библейских и современных пейзажей, на глубинном уровне раскрывается в авторских лирических отступлениях. О двух из них, начинающихся словами: "Еще я помню: есть одна гора", мы поговорим позднее.
Сейчас же, чтобы не прерывать анализ символики и метафорики, остановимся на лирическом отступлении "о кусте". Поводом к нему послужил фабульный ход (отсутствующий в Библии) о кусте, подающем тайный знак Аврааму о конце пути:
Внезапно Авраам увидел куст.
Густые ветви стлались низко-низко.
Хоть горизонт, как прежде, был здесь пуст,
но это означало: цель их близко.
Исаак сначала не заметил куста, занятый вышеупомянутым "небесным лесным пейзажем", но затем, увидев его, понял какую-то его тайную связь с собственной судьбой. Вероятно, куст произвел на него определенное впечатление, ибо он не прошел мимо него, а остановился и задумался:
Он бросил хворост, стал и сжал в руках
бесцветную листву, в песок уставясь.
Эта пауза в рассказе -- время задумчивости Исаака около куста -используется автором для его собственных размышлений. Он как бы переселяется на это "незанятое" время в Исаака, сливается с ним. Раздумия поэта-Исаака о сущности куста представлены длинной цепочкой перечислений того, на что похож куст. Эти перечисления делают куст всеобъемлющим символом жизни, жизни вообще -- растения, птицы, человека, тела, души, народа:
Колеблет ветер здесь не темный куст,
но жизни вид, по всей земле прохожий.
Куст как олицетворение народа (в частности, еврейского) продолжает символику экспозиции о "сгоревшем кусте" и как бы противоречит конечности "сгорания":
С народом сходен -- весь его рассей,
но он со свистом вновь свой ряд смыкает.
Здесь же звучит и мотив "отщепенчества", отпадения от нации:
а те, кто жаждет прочь -- тотчас трещат
и падают -- и вот он, хворост, хворост.
Несколькими строфами ниже метафора "ветви -- люди" продолжает развивать тему отчуждения, аллегорически воспроизводя судьбу евреев рассеяния, оторвавшихся от родного куста и сожженных позже в печах крематориев:
Отломленные ветви мыслят: смерть
настигла их -- теперь уж только время
разлучит их, не то, что плоть, а твердь;
однако здесь их ждет иное бремя.
Отломленные ветви мертвым сном
почили здесь -- в песке нагретом, светлом.
Но им еще придется стать огнем,
а вслед за этим новой плотью -- пеплом.
И лишь когда весь пепел в пыль сотрут
лавины сих песчаных орд и множеств, -
тогда они, должно быть, впрямь умрут,
исчезнув, сгинув, канув, изничтожась.
В этой же части поэмы (размышление над кустом) начинает раскрываться и буквенная символика куста, куста, потерявшего корни (грамматические и жизнетворные):
Кто? Куст. Что? Куст. В нем больше нет корней.
В нем сами буквы больше слова, шире.
"К" с веткой схоже, "У" -- еще сильней.
Лишь "С" и "Т" в другом каком-то мире.
Символика двух последних букв проявляется в центральной повествовательной части поэмы -- сне Исаака:
Что ж "С" и "Т" -- а КУст пронзает хмарь.
Что ж "С" и "Т" -- все ветки рвутся в танец.
Но вот он понял: "Т" -- алтарь, алтарь,
а "С" на нем лежит, как в путах агнец.
Оказывается, что куст -- это не только символ жизни, но и символ жертвы, и в этом последнем значении "куст" сближается с "крест", который является центром и средоточием куста, его основой:
Лишь верхней планке стоит вниз скользнуть,
не буква "Т" -- а тотчас КРЕСТ пред нами.
Возможно предположить, что переход иудейской символики (куст, семисвечник в виде куста) в христианскую (крест, распятие) содержит намек на Исаака как прообраз Иисуса. Он так же, как Иисус безропотно шел на место жертвы, и так же нес на себе дрова для жертвоприношения, как Христос -крест. Готовность Авраама принести в жертву сына -- прообраз аналогичного события Нового Завета: принесения Богом своего Сына в жертву за грехи всех людей с последующим Его воскресением. Все это можно рассматривать как параллель к мысли о возрождении еврейского народа после сожжения в лице современного мальчика Исака. Интересно, что сон Исаака содержит нечто вроде вознесения:
И ветви, видит он, длинней, длинней.
И вот они его в себя приняли.
Земля блестит -- и он плывет над ней.
Горит звезда...
Исаак как символ жертвы трактуется и в последующих строфах поэмы, где речь идет о буквенной символике этого имени:
Пол-имени еще в устах торчит.
Другую половину пламя прячет.
И снова жертва на огне кричит.
Вот то, что "ИСААК" по-русски значит.
Теперь вернемся к рассмотрению двух лирических отступлений "о горе". Первое из них воспроизводит горное озеро, безлюдную тропу и вишневые деревья, склоняющиеся к ней. О какой именно горе идет речь читателю не сообщается, отсутствие специальных примет превращает само место скорее в некий символ, нежели в конкретную существующую (или существовавшую) топографическую данность. Вспомним, что гора вообще "общее место" библейских сказаний -- многие знаменательные события происходили именно на горе: ковчег Ноя останавливается на горе Арарат в Армении, Авраам устраивает жертвенник и готовится к закланию Исаака на горе Мориа, на горе Хорива Моисею является Бог в виде неопалимой купины -- не сгорающего в огне куста, ставшего символом избранничества еврейского народа, притесняемого, но не гибнущего, на горе Синае Моисей получает от Бога заповеди, диавол искушает Христа властью на горе, на горе около Галилейского озера Иисус дает людям Новый Завет (нагорная проповедь), на горе Фавор происходит Преображение Господне, на горе Голгофе совершается распятие Христа и рядом с ней Его Воскресение, на горе в Галилее Иисус является апостолам и пятистам ученикам, на горе Елеонской происходит Вознесение Господне.
По-видимому, нет смысла искать конкретную гору, ибо не в горе как таковой дело, а лишь в ее способности открыть глазу максимальное пространство, позволить взглянуть на мир сверху вниз. Интерес же наблюдающего неизменно внизу, у подножия горы. В первом отступлении о горе центром внимания оказывается пустая тропа и тень листвы, лежащая на ней:
Тропа пуста, там нет следов часами.
На ней всегда лежит лишь тень листвы,
а осенью ложатся листья сами.
Образ "тени" приобретает в последующих строках символику бесконечности смены поколений, смертей и рождений, иными словами, бесконечности обновления, знаменующей одновременно и преемственность между "отцами" и "детьми". Деревья, склоненные к земле прислушиваются и приглядываются к ней, как бы пытаясь узнать о своей родословной:
Как будто жаждут знать, что стало тут,
в песке тропы с тенями их родными,
глядят в упор, и как-то вниз растут,
сливаясь на тропе навечно с ними.
Во втором лирическом отступлении "о горе" тема "рощи-народа", "смерти -- возрождения", "отчуждения -- преемственности" отчетливо проявляется в уже знакомом нам метафорическом традиционном "гербертовском" ключе: