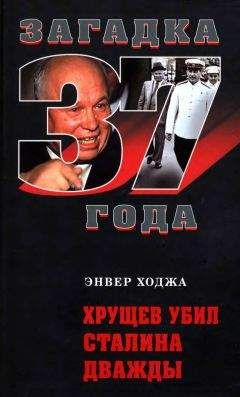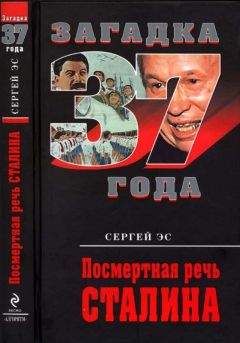Дмитрий Быков - Блуд труда (сборник)
Но и их засилье шло нам, людям нормы, на пользу. Полемика с ними (разумеется, при условии полного невмешательства со стороны государства) нам, людям нормы, жизненно необходима. Потому что, как бесстрашно формулировал тот же Честертон, “почему борются во Вселенной муха и одуванчик? Для того чтобы каждый, кто покорен порядку, обрел одиночество и славу изгоя. Для того чтобы каждый, кто бьется за добрый лад, был смелым и милосердным, как мятежник. Для того чтобы мы смели ответить на кощунство и ложь Сатаны. Какие страдания чрезмерны, если они позволяют сказать: “И мы страдали?”
В девяностые годы пророчество это сбылось: каждый, кто был покорен порядку, обретал одиночество и славу изгоя. Послушайте, какими словами сектанты поливали православного фундаменталиста Кураева и шизофреника Дворкина. Почитайте, что писали о Никите Михалкове, который при всех своих бесспорных минусах искренне и честно исповедует патриархальную идею доброго порядка. Вспомните, какая дрянь поднималась на щит литературной критикой, обслуживавшей тот загадочный класс, который отмывал деньги посредством глянцевой журналистики. И вы поймете, что идея доброго порядка была в мире за последние десять лет скомпрометирована как никогда. Хотелось бы надеяться, что апологеты доброго порядка обретали во время своей травли не только черты столь монструозные, как в михалковском варианте, но и смелость и милосердие, о которых говорил Честертон. Теперь, кстати, один завзятый либерал в одном сетевом журнале дико нападает на новый американский патриотизм. Ему, видите ли, не нравится, что нация сплотилась вокруг Буша. Между тем я решительно не понимаю, что дурного в патриотизме. Васильев и Проханов никакие не патриоты, они малообразованные мистики, и спорить с ними еще не значит быть космополитом; достаточно быть хорошим стилистом. В нашем сознании совершенно напрасно отождествляются космополитизм и хороший вкус, цинизм и ум, средний класс и посредственность… Можно быть патриотом, талантливым писателем, идеологом среднего класса и человеком среднего достатка. Пример тому – Честертон. А если кому-то кажется, что он недостаточно талантлив, я назову еще Уэллса и Киплинга, старых добрых защитников старого доброго бремени белых. Того Киплинга, который иногда так и кажется идеологом сегодняшней Америки. А что делать? “Мы вправе приказывать детям; начни мы убеждать их, мы бы лишили их детства” (Честертон. “Еще несколько мыслей по поводу Рождества”).
И напоследок несколько слов от Натальи Трауберг, главного отечественного специалиста по Честертону и моего любимого переводчика:
“Для Честертона неразделимы ценности, которые мир упорно противопоставляет друг другу Он рыцарь порядка и свободы, враг тирании и анархии (выше я уже пытался доказать, что тирания и анархия взаимообусловлены и почти тождественны. – Д. Б.). Некоторые критики полагали, что Честертон взывал к толпе, проповедовал жестокие догмы… Эзра Паунд сказал когда-то: Честертон и есть толпа. Редко, но встречаются противники и поклонники Честертона, которые считают его кровожадным сторонником силы, насаждающей порядок. Но это так же неверно, как считать его благодушным и всетерпимым”.
Наверное, у иного читателя Честертона, правда читателя либо очень трусливого, либо очень тенденциозного, есть, пожалуй, не то чтобы право, а возможность воспринять его как поклонника полицейского порядка. Ведь главный герой “Четверга” Сайме завербован именно в интеллектуальную полицию. Интеллектуальную, но полицию. Причем тайную. А полиция, хотя бы и самая интеллектуальная, есть все-таки агент государства, и она часто не умеет вовремя остановиться. Правда, на симпатии к тайной полиции пойман уже и Булгаков, чей Афраний выглядит праведным мстителем и вообще довольно симпатичным малым. А в Петрограде времен осени 1917 года, когда на сцене театра появлялся городовой, его приветствовали овацией.
Я против того, чтобы устраивать овации городовым. Но я ничего не имею против того, чтобы полицейские обезвреживали воров и убийц, чтобы зло было наказуемо и чтобы права преступников и честных граждан были… сейчас, наберу воздуху и решусь… нуда, неравны.
Ценности свободы и здравого смысла не противоречат друг другу, ибо продиктованы они любовью к человеку. В сегодняшней России, как и в Америке, человек опять начинает чего-то стоить. Не любой, а такой, каким он задуман: свободный, смелый, честный. Мерилом человеческого достоинства перестают быть богатство и национальность и становятся другие качества вроде ума, таланта и храбрости.
XX век был дан нам для того, чтобы пройти через максимум возможных соблазнов. XXI дан для того, чтобы вернуться к идее дома, нормы и человечности. Потому что христианство прежде всего человечно, чего бы ни врали в свое оправдание противники гуманизма и сторонники Великих Идей.
Мне приходилось уже писать о том, что сегодняшнее человечество в каком-то смысле вполне заслуживает третьей мировой войны, как ни ужасно это звучит. Оно к ней готово, потому что слишком легко забыло об имманентных и фундаментальных ценностях бытия. Но доводить до третьей мировой войны не обязательно. Достаточно почитать Честертона. Этим я и предлагаю обойтись.
Потому что, напоминаю, статья у нас была о Честертоне, Г.К. Честертоне, 1874–1936, 65 лет со дня смерти которого исполнилось в этом году.
2001
Держаться, Корней!
Стодвадцатилетия Корнея Чуковского почти никто не заметил. Сбывается его собственный мрачный прогноз в одной из дневниковых записей: через десять лет после моей смерти, писал он, мимо этой дачи будут проходить новые жители Переделкина и заспорят: тут жил какой-то Чуковский… Да что вы говорите, я точно знаю, что Маршак!
Впрочем, чего тут сетовать: стодвадцатилетнего юбилея Блока тоже не замечали, да и вообще – чем меньше Отечество празднует подобных дат, тем больше у нас шансов, что оно покуда не окончательно затоталитарилось. Иное дело, что за Чуковского как-то обиднее, чем за Блока. Блок свое взял – в том числе и при жизни. Его не раз называли мучеником русской литературы – но это было мученичество светлое, сродни пастернаковской голгофе в конце пятидесятых: твердое сознание избранничества, сочувствие и любовь читателей… Да и творчество всегда было для Блока радостью, он ни дня не “работал” в собственном смысле слова: в записных книжках есть характерная помета рядом с неудавшимся черновиком – “Не пишется, так и брось”. Чуковский был каторжник, олицетворявший собой совершенно иной тип служения слову: не сказать, чтобы он не обладал врожденным вкусом и слухом, не сказать также, чтобы не любил литературу (только ее и любил на свете) – но каким нечеловеческим трудом давался ему каждый текст, производивший на современников впечатление легкости, поверхностности и танцующего, порхающего блеска! Дневник Чуковского, ставший со временем главным и наиболее цитируемым его произведением, переполнен признаниями: “разучился писать”, “даже письма пишу с черновиками”, “бездарен”, “не могу написать ни строки”, “с трудом и отвращением дописываю”… Скрип, натуга, тоска, лямка, ярмо.
И все это при том, что литература действительно была его хлебом и воздухом, его единственно нормальной средой, его человеческим и политическим убежищем, его матерью и его ребенком, – даже в русском двадцатом веке, в котором служение слову уж подлинно заменило религию, я не назову другого человека, который бы так обожал словесность. Он мог заиграть, вспыхнуть от любого случайно брошенного слова, узнанной цитаты, удачной шутки; он мигом оценивал человека по тому, узнает или не узнает тот брошенную ему фразу-пароль, ловит или не ловит мячик… Он расцветал при малейшем упоминании любимого автора – и, напротив, чувствовал глубочайшее уныние в обществе людей, читавших исключительно газеты и говоривших исключительно о модах или водах… Все курортные поездки были ему поэтому отравлены, все путешествия, кроме заграничных, – невыносимы; он легче переносил одиночество, нежели соседство неучей и бездарей, а в этом соседстве прошла большая часть его жизни, так жестоко переломившейся. В его записях двадцатых годов рассыпаны растерянные и трогательные проговорки: не узнаю людей, все люди куда-то подевались, давно нет ни настоящих лиц, ни настоящих разговоров… В каком-то смысле ему повезло меньше, чем Блоку: Блок умер, а он все жил – и волей-неволей подпадал под общие гипнозы, деградировал вместе с эпохой, думал о мелочах, писал о ничтожествах, распрямляться начал только в пятидесятые… Лучший русский критик начала века, вытесненный в убогую нишу сказочника, заваленный кучей чужих переводов, которые безотказно редактировал, вечно склоненный над грудой корректур, читающий какие-то никому не нужные лекции, вынужденный отстаивать перед бездарной, тупой Крупской самоочевидные вещи – вроде права волшебных сказок на существование… Господи, какой ужас, как подумаешь!