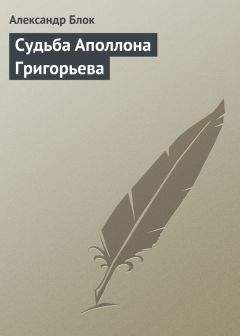Александр Блок - Том 7. Дневники
В самом деле, почему живые интересуются кончающими с жизнью? Большей частью по причинам низменным (любопытство, стремление потешить свою праздность, удовольствие от того, что у других еще хуже, чем у тебя, и т. п.). В большинстве случаев люди живут настоящим, т. е. ничем не живут, а так — существуют. Жить можно только будущим. Те же немногие, которые живут, т. е. смотрят в будущее, знают, что десятки видимых причин, заставляющих людей уходить из жизни, ничего до конца не объясняют; за всеми этими причинами стоит одна, большинству живых не видная, непонятная и не интересная. Если я скажу, что думаю, т. е. что причину эту можно прочесть в зорях вечерних и утренних, то меня поймут только мои собратья, а также иные из тех, кто уже держит револьвер в руке или затягивает петлю на шее; а „деловые люди“ только лишний раз посмеются; но все-таки я хочу сказать, что самоубийств было бы меньше, если бы люди научились лучше читать небесные знаки».
Так я и пошлю мальчишке — корреспонденту «Русского слова» (если он спросит еще раз по телефону), который третьего дня 2,5 часа болтал у меня, то пошло, то излагая откровенно, как он сам вешался; все — легкомысленно, легко, никчемно, жутко — и интересно для меня, запрятавшегося от людей, у которого голова тяжелее всего тела, болит от приливов крови — вино и мысли.
Вечером третьего дня пришел Пяст. С ним — главное, о том, что делать. «Как тонкая игла сквозь студенистую массу». Да, сквозь все «фальшивые купоны» (Толстой) проходить можно только собственной тяжестью, весом.
Потом мы с Бу поехали к Ремизовым (Бу получила отказ от Общества трезвости, у Ремизовых говорит с Зоновым о Незлобинском театре). Алексей Михайлович сообщил еще много нового о Гермогене и Распутине — все больше выясняется; становится наконец понятным — после газетного вздора. Все дело не в том, что Гермоген «разворовал монастырь» и прочее нежизненное, а в том, что Гермоген (и Распутин) — действительно крупное и… бескорыстное. Корысть — не их. Корысть — в океане мистики, который захлестнул и их, и двор, и все высшие классы. Если исход из этого — только столь же ненужное «патриаршество», то это еще с полбеды.
Алексей Михайлович убеждает писать балет (для Глазунова, который любит провансальских трубадуров XIV–XV века?!) — либретто. На третий день Пасхи будем говорить у Ремизова с Терещенкой (киевский миллионер, «чиновник особых поручений» при «директоре императорских театров», простой, по словам Ремизова, и хороший молодой человек). — Письмо от Скворцовой.
Вчера: груда книг («Труды и дни» № 1 — пока сомневаюсь… От Балтрушайтиса сборник; журналы). Послание в стихах от Вл. Гиппиуса.
Ночью — кошмар, кричу. Темные, черные эти «страстные» ночи, с каждым годом — труднее они, и «праздники». Холодно.
Вчера около дома на Каменноостровском дворники издевались над раненой крысой. Крысу, должно быть, схватила за голову кошка или собака. Крыса то побежит и попробует зарыться под комочек снега, то упадет на бок. Немножко крови за ней остается. Уйти некуда. Воображаю ее глаза. То же, что тот человек, упавший, прыгая с трамвая, только жальче, потому что — беспомощней. На эту крысу иногда бывает похож Ремизов. Был похож, вероятно, особенно тогда, когда полночи носил на руках Наташу и баюкал, а потом выбежал с пожара в одном белье, и швейка накинула ему на плечи шелковую кофточку (мороз 22 градуса и ночь в провинции). Тогда писались «Часы». — Все ходит, и сейчас пришел, тот «литературный нищий». Все это — одно, одно: Пасхальное, «святая пасха», господи боже мой!
Наконец прислали три экземпляра «Снежной ночи». Снес ее маме. К 12-ти пошел к Петру, встретил там Пяста. Мороз, черные толпы, полиция, умирающие архиереи тащатся, шатаясь, по мосткам между двумя шпалерами конных жандармов. Все время слышна команда. Петр и собор в белых снежных пятнах, пронзительный ветер, Нева вся во льду, кроме черной полыньи вдоль берега, — тяжелая, густая вода. — Вернулся к Бусе «разговляться».
25 марта
Обедал у мамы, — милый Е. О. Романовский, которого я не видал девять лет. Гущин. Остальное — не стоит. Тяжело и скучно.
26 марта
Днем — острова, очаровательная мещанка в конке. Возвращаюсь — Кузьмин-Караваев (рассказы о Витте и т. д. — страшно, что делается с Кузьминым-Караваевым). Вечером — Художественный театр: Тургеневский спектакль (в маминой ложе): раздирательный «Нахлебник» (беспросветно; вечное: все люди делятся… неприспособленные — нахлебники). Из актеров — вполне настоящий один Станиславский (в «Провинциалке»). Остальные нигде не поражают (Артем очень хорош. Качалов делает глазки, от него уже пахнет «jeune ргеппег'ом»…[55]). — Руманов рассказывает о мерзости, произведенной на границе с только что вернувшимися Мережковскими. Дмитрий Сергеевич успел спросить его, вышло ли что с Блоком? Узнав, что все еще ничего, — огорчился.
Преобладающее чувство этих дней — все растущая злоба.
29 марта
27-го «Живой труп». Все — актеры, единственные и прекрасные, но — актеры. Один Станиславский — опять и актер и человек, чудесное соединение жизни и искусства. А цыгане — разве это цыгане? Нет, цыгане не таковы. После спектакля я у Ремизова — разговор с Терещенкой о балете для Глазунова. О самоубийстве — мы с Ремизовым поняли друг друга. Как же это писать в «Русское слово»?
28-го — днем у мамы — хороший разговор. Вечером цирк и прочее.
Сегодня отвечаю Н. Н. Скворцовой, что: «все не так, слова ее — покров, не знаю над чем. Мир прекрасен и в отчаяньи — противоречия в этом нет. Жить надо и говорить надо так, чтобы равнодействующая жизни была истовая цыганская, соединение гармонии и буйства, и порядка и беспорядка. Иначе — пропадешь. Душа моя подражает цыганской, и буйству и гармонии ее вместе, и я пою тоже в каком-то хору, из которого не уйду».
30 марта
Сочиняю балет, почти ничего о трубадурах не нахожу у букинистов. Кухарка больна, сами всё делаем. Вечером — мама, тетя и Женя.
1 апреля
А. В. Руманов — совершенно растерзанный, с переменами в жизни; все очень хорошо. Два письма от Н. Н. Скворцовой и мой ответ с Николаевского вокзала.
5 апреля
Эти дни: «Гамлет» в Художественном театре (плохо). Письмо от Н. Н. Скворцовой, боюсь за нее. Вчера в «Тропинке» с мамой. Гибель Titanic'a, вчера обрадовавшая меня несказанно (есть еще океан). Бесконечно пусто и тяжело.
6 апреля
Почти жарко днем, душно в квартире. В первый раз — легкое пальто и палка — особая страна. Ночью — тяжелые сны и думы. В 5 ч. дня приехали Терещенко с Ремизовым в автомобиле, ездили на Стрелку, потом Алексей Михайлович обедал, вечером пришел Женя, с которым мы говорили путано, но не трудно. «Моя правда», — говорит он, — без веры в Христа прежде и без Христа в сознании теперь, но правда моя — консервативная, я стою на месте. Вечером я проводил его до трамвая, воздух отрадно прохладен, звезды, тихо, и на сердце тише.
От Н. Н. Скворцовой письмо — тише. Все-таки боюсь за нее, опасно с ней.
9 апреля
Сегодня я получил 90 экземпляров «Снежной ночи». Обедал Д. В. Философов, рассказал все трудное положение их дел. Хорошо говорили.
10 апреля
Утром — В. П. Веригина — хорошая, милая, но актриса и болтушка. В 5 ч. приехал Терещенко, катал нас с Ремизовым но островам, потом обедали у нас. Люба повита к своим, а я отвез Алексея Михайловича домой, а сам приехал к Пясту, с которым проговорили до 3-го часу ночи — тяжело. Я устал страшно.
11 апреля
Сегодня весь день телефонные недоразумения с Терещенко, Глазунов не мог принять, назначил завтра. Вечером я пошел в тоске нить, но в ресторане сидел милый Сапунов. Так и проговорил с нем — было скучно и ему и мне. Он придет скоро обедать, хочет меня рисовать.
Какая тоска — почти до слез. Ночь — на широкой набережной Невы, около университета, чуть видный среди камней ребенок, мальчик. Мать («простая») взяла его на руки, он обхватил ручонками ее за шею — пугливо. Страшный, несчастный город, где ребенок теряется, сжимает горло слезами.
13 апреля
Протрезвление после вчерашнего пьянства. Поздно вечером пришел Пяст, опять необходимые и хорошие, слава богу, речи. Завтра он едет в Стокгольм, где Стриндберг, может быть, умирает (рак в желудке).
17 апреля
Эти дни — много книг, писем и разговоров. Терещенко, который с каждым разом мне больше нравится, Ремизов, Е. Е. Соловьева (приглаш<ала> на литературный вечер), А. Мазурова, у мамы — П. С. Соловьева и Латкин.
Наконец отвечаю Боре о «Трудах и днях».
Соображения попутные, (не из письма): утверждение Гумилева, что «слово должно значить только то, что оно значит», как утверждение — глупо, но понятно психологически, как бунт против Вяч. Иванова и даже как желание развязаться с его авторитетом и деспотизмом. В. Иванову свойственно миражами сверхискусства мешать искусству. «Символическая школа» — мутная вода. Связи quasi-реальные ведут к еще большему распылению. Когда мы («Новый путь», «Весы») боролись с умирающим, плоско-либеральным псевдореализмом, это дело было реальным, мы были под знаком Возрождения. Если мы станем бороться с неопределившимся и, может быть, своим (!) Гумилевым, мы попадем под знак вырождения. Для того чтобы принимать участие в «жизнетворчестве» (это суконное слово упоминается в слове от редакции «Трудов и дней»), надо воплотиться, показать свое печальное человеческое лицо, а не псевдо-лицо несуществующей школы. Мы — русские.