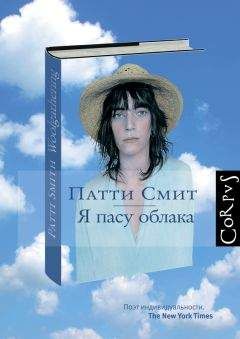Патти Смит - Поезд М
– За душевный покой переплатить невозможно, – ответила я.
Мы все толпой влезли в автобус и поехали в Валенсию. Несколько пассажиров собирались участвовать в демонстрации против сноса квартала Эль-Кабаньяль. Старые дома, облицованные разноцветной плиткой, рыбацкие хибарки да бунгало наподобие моего. Хрупкие сооружения, которых никогда уже не удастся воссоздать, остается только скорбеть. Скорбеть, как по бабочкам, которые однажды просто исчезнут. Присоединившись к моим спутникам, я почувствовала, что к их гордому гневу примешивается бессилие: у кого больше, у кого меньше. Давид и Голиаф в Валенсии. Я снова раскашлялась, пора домой. Но у меня теперь несколько “домой”. Теперь, когда я говорю “мой дом”, я думаю об Аламо. Но на то, чтобы привести его в жилой вид, понадобится масса времени. Никак не могу отделаться от видений: изломанное ураганом побережье, смытый волнами променад, величественный аттракцион “Гора”, подскакивающий на воде, словно скелет кита, словно останки Моби Дика, только еще более жалостный, а ведь в его конструкциях аккумулирован задор любителей риска за много поколений. На аттракционах все глаголы – в настоящем времени, оглянуться назад невозможно просто физически.
В голове все время вертелся список предметов, дрейфующих по океану, и предметы эти прыгали, как прыгают через изгородь овцы, которых считаешь, чтобы заснуть. Но такие банальные занятия, как сон, я оставила в прошлом. “Открой глаза, – сказал какой-то голос, – стряхни с себя оцепенение”. Когда-то время двигалось концентрическими кругами. Проснись и вскричи, словно торговка рыбой с рю де ла Бастиль. Я встала, распахнула окно. Меня приветствовал сладчайший из ветерков. Что теперь – революция или дремота? Я завернула подушку в транспарант с надписью Salvem el Cabanyal[33], свернулась калачиком и ушла в себя в поисках утешения, а оно меня уже дожидалось – только позови.
Домой я вернулась незадолго до Дня благодарения. Мне только предстояло оказаться лицом к лицу с переменами, которые постигли Рокуэй. Я приехала вместе с Клаусом на машине на собрание местных жителей, проходившее в шатре, который обогревался от электрогенератора. Мои будущие соседи: целые семьи, серфингисты, местные госслужащие, пчеловоды-нонкомформисты[34]. Я прошлась по пляжу, вдоль которого, насколько достигал взгляд, тянулась вереница бетонных пилонов. Раньше они держали на себе променад. Римские руины в Нью-Йорке – такого еще никто себе не нафантазировал, за исключением Дж. Г. Балларда. Ко мне подошел старый черный пес. Остановился передо мной, а я потрепала его по холке, и мы вдвоем, словно так и надо, долго стояли лицом к океану, глядя, как набегают и отступают волны.
Это был идеальный День благодарения. Погода оказалась более щадящая, чем обычно в это время, и мы с Клаусом дошли пешком до Аламо. Мои соседи забили разбитые окна досками, навесили на треснувшую дверь засов на замке с шифром, к фасаду прикрепили большой американский флаг.
– Зачем они это сделали?
– Чтобы уберечь от мародеров. Чтобы продемонстрировать: народ взял этот дом под защиту.
Клаус знал шифр. Он отпер дверь. Запах плесени настолько господствовал над всеми остальными, что я чуть не упала в обморок. Внутри на стенах, в четырех футах от пола, отчетливо виднелась ватерлиния, отсыревшие полы уже начали гнить. Я подметила, что крыльцо накренилось, а мой двор превратился в лоскуток пустыни.
– Ты устоял, – сказала я с гордостью.
Я наткнулась на что-то теплое и зернистое. Это все Каир: ее стошнило на край моей подушки. Я села на постели, окончательно пробудившись, пытаясь припомнить что-то ускользающее. Посмотрела на часы. Скоро шесть, необычайная рань по моим меркам. Ах да, у меня же день рождения… И я снова нырнула в сон, а потом вынырнула, и так несколько раз.
Наконец я встала, не в настроении. В моем ботинке лежала кошачья игрушка, маленькая и помятая. Я посмотрелась в зеркало. Отрезала концы кос, потому что на ощупь они были как солома, убрала высохшие пряди в конверт из оберточной бумаги – неоспоримые доказательства для анализов ДНК.
Как всегда, я тихо поблагодарила родителей за мою жизнь, потом спустилась вниз и покормила кошек. Никак не верилось, что еще один год подходит к концу. Казалось, я только что спустила воздух из серебряного воздушного шарика, который возвестил его начало.
Когда прозвенел дверной звонок, я удивилась. На пороге стоял Клаус со своим другом Джеймсом. Они принесли мне букет цветов, подогнали автомобиль и потребовали, чтобы я с ними прокатилась.
– С днем рождения! Поехали с нами в Рокуэй, – сказали они.
– Я никуда не могу ехать, – запротестовала я.
Но разве я могла отказаться от предложения провести день рождения у океана? Я схватила пальто и вязаную шапку, и мы поехали на Рокуэй-Бич. Несмотря на зверский холод, сделали остановку у моего дома – поздороваться. Дверь была заколочена гвоздями, флаг был в полной сохранности. У дома нас перехватил какой-то сосед:
– Неужели его обязательно нужно сносить?
– Не беспокойтесь. Я его спасу.
Я сфотографировала дом и пообещала скоро вернуться. Но сама знала, что зима ожидания затянется – очень уж большие разрушения. Мы прошлись по улице, где жил Клаус. Пенопластовые снеговики да отсыревшие диваны, опутанные елочной мишурой. Огромный сад Клауса опустошен: выжили только самые стойкие деревья, но их немного. Мы взяли в единственной кулинарии, которая еще не закрылась, кофе и пончики с сахарной пудрой, Клаус и Джеймс спели “С днем рожденья тебя”. Снова сели в машину, поехали мимо высоких холмов – груд бытовой техники, извлеченной из затопленных полуподвалов. Ни дать ни взять Семь Холмов Рима: горный хребет из холодильников, электроплит, посудомоечных машин и матрасов навис над нами – что-то вроде громадной инсталляции в память о ХХ веке.
Мы проехали дальше, до Бризи-Пойнта, где сгорело дотла больше двухсот жилых домов. Почерневшие деревья. Тропки, которые когда-то вели к берегу, теперь не найти – их скрыло какое-то индастриал-ассорти из диковинных волокон, разбросанных кукольных конечностей, осколков фарфора. Как будто Дрезден в миниатюре, крохотная сцена, где ставят спектакль про искусство войны. Но никакой войны, никакого противника тут не было. Природе неведомы эти понятия. Природа поступает иначе – присылает к нам вестников.
Время, оставшееся на моем балансе в день рождения, я истратила, созерцая Элвиса Пресли в “Пылающей звезде” и размышляя о преждевременных смертях некоторых мужчин. Фред. Поллок. Колтрейн. Тодд. Всех их я пережила намного. Неужели однажды они покажутся мне мальчишками? Сон не шел, и я сварила кофе, надела худи, уселась на своем крыльце. Задумалась, каково быть шестидесятишестилетней. Совпасть с номером изначального американского шоссе, прославленной Матушки-Дороги, по которой странствовал Джордж Мейхарис в роли База Мэрдока[35]: ехал через всю страну на своем “корветте”, подрабатывая на буровых и траулерах, разбивая сердца и освобождая наркоманов. Шестьдесят шесть, подумала я, ну и ладно. Почуяла, как аккумулируется моя хронология, как надвигается снегопад. Чувствовала, но не видела луну. Густой туман, подсвеченный снизу неутомимыми городскими огнями, затянул небо. В моем детстве ночное небо было грандиозной картой созвездий, рогом изобилия, рассыпавшим кристаллическую пыль Млечного пути по бескрайней глади из черного дерева, звездными наслоениями, которые я в своих мыслях ловко упорядочивала.
Обратила внимание, как туго натянута ткань джинсов на моих выпуклых коленках. Я все тот же человек, подумала я, со всеми моими недостатками, сбереженными в целости и сохранности, с теми же самыми, слава тебе господи, старыми добрыми костлявыми коленками. Задрожала от холода, встала с крыльца – пора спать. Зазвонил телефон: пожелания на день рождения от старого друга, дозвонившегося до меня из своих дальних стран. Попрощавшись с ним, я осознала, что скучаю по одной конкретной версии себя – беспокойной, нечестивой. Это мое “я” упорхнуло прочь, определенно упорхнуло. Прежде чем подняться в спальню, я вытянула карту из колоды Таро: туз Мечей, сила ума и сила духа. Вот и хорошо. Я не вернула карту в колоду, а оставила лицом вверх на рабочем столе: проснусь утром и ее увижу.
Vecchia Zimarra
Внезапный порыв ветра налетает на ветки деревьев, расшвыривая так и сяк листья, и те кружатся в воздухе, зловеще поблескивая на ярком, хоть и рассеянном свету. Листья – как гласные, шорохи слов подобны вздохам сети. Листья – это и есть гласные. Я подметаю их в надежде набрести на нужные мне сочетания звуков. Язык малых божеств. Ну, а сам Бог? На каком языке говорит Бог? Что приносит Ему радость? Сливается ли Он со строками Вордсворта, с музыкальными фразами Мендельсона, ощущает ли Он природу так, как ее осмыслил гений? Занавес поднимается. Закручивается сюжет оперы из жизни человечества. И в ложе, которую придерживают для королей – больше похожей на трон, чем на театральную ложу, – Господь Вседержитель.