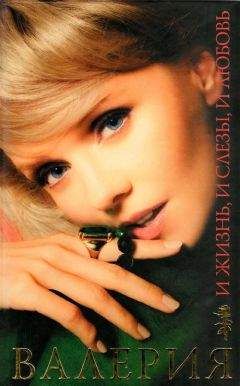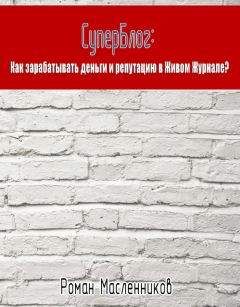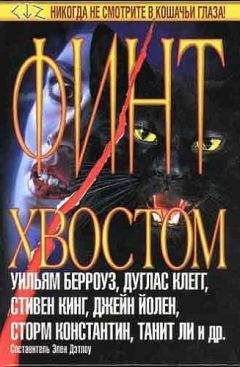Валерия Пустовая - Матрица бунта
Исключительный случай — героиня «Матисса». Сопряжение идейных исканий с социальными реалиями укрепило здесь не только сюжет путешествия. Именно благодаря тому, что слабоумная Надя — бомжиха с правдоподобной биографией и хорошо прорисованной динамикой душевных состояний, она стала не повторенным в прозе Иличевского образом живой женственности — той, которую не надо конструировать в удаленном любовании, полуночных грезах и размышлениях про «смерть желания», той, что вызывает любовь. В читателе — точно.
«Тема Нади» — так Беляков обозначил еще один путь саморастворения в прозе Иличевского: «Надя — из любимых Иличевским имен <…> Нетрудно заметить, что эти женщины являются как бы антиподами и автора, и его неизменного героя — исследователя и мыслителя. Нади Иличевского ведут естественное, природное, доинтеллектуальное существование». Ничего себе “природное”, заметим мы, вспомнив мигрень и раздвоение личности, отравившие жизнь (но питающие мистическую красоту образа) молдаванки Нади из «Облака». Да и бродяжка Надя из «Матисса» не живет, а мучается над задачником, пытаясь удержаться в уме, а странствие закончит в психиатрической лечебнице. Но удивляет даже не эта натяжка — а то, что критик не замечает, насколько крепко «тема Нади», тема убывания разума, связана с образом самого героя — как там? — «исследователя и мыслителя».
В герое Иличевского — начиная с ранних рассказов и до последнего романа — нет и следа того «здравого сциентизма», который выдумал для его трактовки Сергей Беляков. Героя влечет к состояниям, явлениям и ситуациям, которые способны вытолкнуть его сознание в поле действия откровения: безумие, растворение личности в созерцании, упоение застывшей красотой, смертельная опасность. Это влечение иррационально, как и его смутная цель — не рассуждением добытая истина, а озарение, вдохновенная догадка. Поэтому нельзя не согласиться с Беляковым, что проза Иличевского устремлена к «познанию». Но вот то, что средством познания у него выступает «образ мысли ученого», — никак не следует из его прозы, иррациональной и по строению, и по сюжету.
Страсть к отвлеченному суждению да иногда затуманенная наукообразными словами фраза («Долго Королев основывал содержательность своего существования на приверженности научно-естественной осознанности мироздания…») — вот, пожалуй, все последствия физико-математического прошлого писателя. Герой Иличевского много, упорно и трудно мыслит — но метафоры выплавляет мастеровитей, чем тезисы.
Рациональным выкладкам героя не хватает связи с задачами жизни: слишком многими слоями выдумки отделены они от существа человека. Есть какой-то перебор безумия в том, чтобы «дать Имя ландшафту» через календарные числа, вычислить «кривую пера» для полетов воздушного змея («Перс»), «придумать язык, которым можно было бы разговаривать с Неживым» («Матисс»). Можно заметить и то, как часто обманывает тон героя, обещающий удивительные открытия. «Как поймать Принца? (Бен Ладена. — В. П.)» — завлекательный заход. «Очень просто», поясняют нам, как льва в клетку — «закрыть ее, и после совершить преобразование инверсии относительно границ клетки. В результате лев окажется внутри, а ты сам снаружи. Так же следует поступить и с Принцем. Следует выплеснуть себя во вне — во всю Вселенную, а Принца всунуть в свою оболочку». А вот герой готов поделиться выводами из самобытного опыта своей жизни: «Я крепко уже поездил по стране и могу сказать…» — что же? — «что жизнь в России сравнима с предстоянием на краю пропасти, когда, вытянув шею, вглядываешься в падение, от плечевого пояса — воронкой в разворот — подсасывающую в солнечном сплетении, и в то же время пятишься к простому грунту, с высоты в шесть футов три дюйма…» («Перс»). Объем метафоры впечатляет, но где тут мысль? Где обещанное тоном рассказчика откровение? Разве «предстояние на краю пропасти» — не самое банальное, что может сказать и русофобская, и русофильская мысль о судьбе России?
Досадна и сводящая скулы неточность иных формулировок, претендующих, однако, на литую афористичность. «Любая машина — прах перед раскаяньем» («Курбан-байрам»), «он был уверен, что роскошная бездна детства менее бесстрашна, чем смысловая разведка будущего, каким бы царством оно ни обернулось» («Матисс»)… Вопрос «о чем это?» становится тут для читателя и вовсе насущным.
Иличевский приближается лишь к изображению мысли, подобно герою «Матисса», рисующему на карточках свои озарения: «Родина горит как сердце», «Все перевернулось: нет теперь ни добра, ни телесной дисциплины, ничего — все прорва безнадеги», «Новости таковы, что вокруг — стена дезинформации», «Ложь правит историей. Дыхание мира горячечно» и т. п. Могу предположить, что автору жаль расстаться с этими черновиками художественной интуиции — и он всерьез повторяет в романе любую шалость ума: «“Пупок — провод для мира, неотмершая пуповина”, — приходит вдруг зачем-то ему в голову» («Перс»).
Слабость отвлеченной мысли в прозе Иличевского особенно проявилась в последнем его романе, центр которого — религиозная утопия, реформа веры. Герой «Перса» — привычно полубезумный, мечущийся, бегущий от дома и себя, упоенный зрением — приводит с полдесятка разномастных причин, почему ему следует вернуться в места своего азербайджанского детства. Пространство романа охватно как никогда: Америка, Голландия, Москва, Апшерон. Смыслообразы предельно разнородны: игра и театр, карта и огонь, море и земные недра, похищаемый сын и разыскиваемый первопредок, вожди мировой революции и поэт Хлебников. Центральный сюжет романа, однако, и в географическом, и в композиционном отношении займет мало места. Вернувшись к истокам своей биографии, герой встретит друга детства Хашема, такого же полубезумца, притом артистически одаренного. Оказалось, пока наш герой выяснял отношения с нефтью и бывшей женой, Хашем объединил егерей Ширванского заповедника в религиозно-поэтическое сообщество, в рамках которого воплощает свои языковые, литературные, театральные и богословские идеи…
Сюжет религиозной реформы в прозе Иличевского появился не вдруг. В рассказе «Штурм», а затем и в «Матиссе» мы встречаем мимоходные, но прочувствованные предположения о необходимости связать иудаизм и христианство в личном религиозном опыте. Мысль эта высказана, как всегда у Иличевского, «в порядке бреда», как прозрение, оправданное своей интуитивностью и потому не нуждающееся в доказательствах. Ничего, что «подлинный путь христианина» — предмет вековых размышлений людей, посвятивших жизнь духовному деланию: раз Иличевскому пришло в голову, что «прежде, чем креститься, следует стать иудеем», он не задумываясь делится этим соображением («Матисс»). Но что такое «подлинный путь христианина» для сумасшедшего физика Королева, нашедшего свой особенный путь к откровению — ногами за солнцем? Христианская вера, христианская этика не занимали — до самого момента высказывания — ни пяди в его напряженной душевной жизни.
Меня вообще удивляет, чем (если все-таки принимать эти вывороты мысли всерьез, а не как расчетливую спекуляцию с энергетически насыщенным образом) притягивает писателя фигура Христа? Ведь, судя по текстам, бог Иличевского — это бог степных пространств, безмолвно высящегося над человеком неба; бог, пронизывающий и человека, и траву, растворенный в ландшафте. По правде говоря, его точнее называть Природой, нежели Абсолютом. Переживание Христа закрыто для такого мироощущения — недаром герой Иличевского ощущает, что «Бог не имеет к людям никакого отношения» («Матисс»): ведь именно через Христа личности открывается путь к Богу.
В «Персе» писатель возобновляет упражнения на евангельскую тему. Но очевидно, что Хлебников ему понятнее Христа. Духовный реформатор и богоборец Хашем, властитель религиозной утопии Ширвана, волей автора копирует сразу два образца — романтический миф о поэте-пророке и евангельский путь страдания и воскресения Богочеловека. Просветительская энергия Хашема при этом обращена к мусульманству — и подминает, искажает христианскую идею для удобства аналогии. Христос, приравненный к поэту, — это мусульманский Христос как пророк, а не Богочеловек.
Цель Хашема — дать новую жизнь историческому образу Христа, пережить Евангелие как историю, а не законченное предание. «Хашем основывается на идее о непрекращающемся откровении, о том, что Бог говорит с народом при помощи истории. Хашем хочет столкнуть остановившееся над эпохой время <…> Пусть Евангелие — миф, но он отобран и напитан верой. Неверно думать, что все есть в Писании, ничего подобного: откровение находится в становлении». Идея может вызвать интерес — пока не попробуешь осознать ее в рамках жизненного целого. А осознать придется: Хашем выступает против мертвой догматики, но ведь прилагать Писание к каждодневной жизни, обыденность проживать перед лицом Бога — и значит разомкнуть Предание во время. И вот у меня возникает вопрос: если — «пусть»? — Евангелие только «миф», если уже записанное Откровение так мало имеет власти над жизнью и душевными движениями героев, зачем вообще его продлевать?