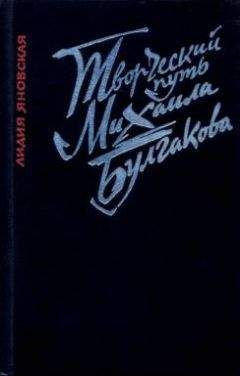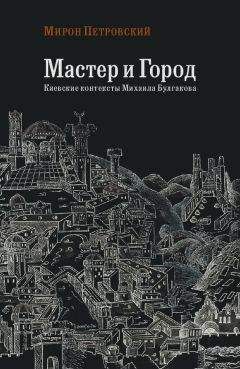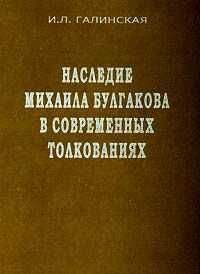Геннадий Смолин - Как отравили Булгакова. Яд для гения
О. С. Бокшанская – А. А. Нюренберг
3 марта 1940 (Москва)
Мамуся моя родная, вчера днем была я у Люси. Ее я застала более собранной внутренне, но вообще картина ужасно грустная. У него появляются периоды помутнения рассудка, он вдруг начинает что-то говорить странное, потом опять приходит в себя. Я взяла, у них сидя, энциклопедию, прочитала об уремии и вижу, что страшно схожие признаки.
Это идет отравление всего организма частицами мочи, и это действует главным образом на нервную систему и мозг. Бедная Люсенька в глаза ему глядит, угадывает, что он хочет сказать, т. к. часто слова у него выпадают из памяти и он от этого нервничает; утром у него был жестокий приступ болей в области печени, он решил, что чем-то отравился, но когда я пришла, он отоспался и болей не было. Ах, как грустно, как страшно на все это смотреть. Он обречен, и все мы теперь больше думаем о Люсе, как с ней будет, ведь сколько силы душевной надо иметь и еще это выдержать, как на ее глазах мутится разум близкого человека. Но когда он в себе, он мил, интересен, ласков по-старому с Люсей. А потом вдруг страшно раздражителен, требователен. Хотя надо сказать, что к Люсе и Сереже у него замечат(ельное) отношение, сердится он на других, но теперь ведь все ему прощают, только б не мучился, не волновался. Ах, Люсик, ужасно о ней беспокоюсь…
О. С. Бокшанская – А. А. Нюренберг
5 марта 1940 г. (Москва)
…У Люси сегодня с утра о(чень) плохо с Мишей, помутнение разума его достигает все больших размеров, вчера была у меня Лоли, рассказывала, что он испытывает и физические страдания, т. к. боли бывают повсеместно, а сегодня Женечка оттуда позвонил, говорит, что он в сильном возбуждении, но при этом в полном помрачении ума. С Женечкой говорила несколько раз, Люся ему поручала звонить мне, сама она от него не отходит. К вечеру нет сведений, а сама звонить не решаюсь, не помешать бы…
О. С. Бокшанская – А. А. Нюренберг
8 марта 1940 г. (Москва)
…А сегодня пришел один знакомый художник, друг их, который ночевал там вот в эту последнюю ночь. Он под убийственным впечатлением: Мака уж сутки как не говорит совсем, только вскрикивает порой, как они думают, от боли. Мочеиспускание почти прекратилось, и если в этой области показывается что-то, он вскрикивает, вероятно это болезненно. Люсю он как бы узнает, других нет. За все время он произнес раз одну какую-то фразу, не очень осмысленную, потом часов через 10 повторил ее, вероятно, в мозгу продолжается какая-то работа, мысль идет по какому-то руслу. Сережу Люся отправила к отцу и Женюше. Женечка мне не звонил нынче, был ли он там – не знаю.
О. С. Бокшанская – А. А. Нюренберг
9 марта 1940 года (Москва)
…Я говорила с дежурящей там их приятельницей. Она сказала, что накануне ночь и день были ужасные, ночь напролет ни он, никто глаз не сомкнул. А вот последнюю ночь он проспал, с докторским уколом наркотика, много, и Люся поэтому тоже отоспалась. Некоторые наркотики на него перестали уж действовать, он не засыпает, а вчерашний какой-то другой наркотический препарат вот подействовал. Конечно, надежд никаких не прибавляет эта спокойная для него ночь. Думаю, что теперь уж ни волоска надежды нет.
О. С. Бокшанская – А. А. Нюренберг
12 марта 1940 года (Москва)
Дорогая, дорогая моя мамочка! Может быть, ты уж догадалась, почему я не писала тебе эти дни – скончался Мака, и у меня не было сил это написать тебе, а телеграмму дать Люся не позволила, сказала – не надо пугать маму, телеграмма ее взволнует.
Он умер 10-го числа, без двадцати минут пять, днем. После сильнейших физических мук, которые он терпел в последнее время болезни, день смерти его был тих, покоен. Он был в забытьи или под действием наркотиков, которые ему все время впрыскивали, чтоб он не терпел болей, под утро заснул, и Люсю тоже уснуть заставили, дали ей снотворного. Она мне говорила: проснулась я часа в два, в доме необыкновенная тишина и из соседней комнаты слышу ровное, спокойное дыхание Миши. И мне вдруг показалось, что все хорошо, не было этой страшной болезни, просто мы живем с Мишей, как жили до болезни, и вот он спит в соседней комнате и я слышу его ровное дыхание. Но, конечно, это было на секунду – такая счастливая мысль. Он продолжал спать и очень спокойно, ровно дышать.
Часа в 4 она вошла в его комнату с одним большим их другом, приехавшим в этот час туда. И ОПЯТЬ ТАК СПОКОЕН был его сон, так ровно и глубоко дыхание, что – Люся говорит: подумала я, что это чудо (она все время ждала от него, от его необыкновенной, непохожей на обычных людей натуры) – это перелом, он начинает выздоравливать, он поборол болезнь. Он так и продолжал спать, только около половины пятого по лицу прошла легкая судорога, он как-то скрипнул зубами, а потом опять ровное, все слабеющее дыхание, и так тихо-тихо ушла от него жизнь. (…)
О том, что он доживает последние часы, я узнала по телефону от их близких друзей еще часов в 12, они мне сказали, что начался отек легких и пульс 40, что это не может длиться больше суток. И все-таки как-то нельзя было это усвоить, и Веня шел в надежде застать его еще в живых. Но пришел и узнал, что жизнь его кончилась. (…)
Все дела по организации похорон взял на себя Союз сов. писателей, который прислал специального человека, а с ним переговаривался Сережа Ермолинский, чтоб Люсю избавить от этих дел. Она только сказала, что желание Миши было, чтобы не было музыки. В первый же вечер тело подверглось замораживанию, потому что по объяснению доктора эта болезнь повлечет за собой более быстрое разложение тканей. (…)
…На след(ующее) утро 11 марта я приехала к ним, там, как и накануне, были близкие. Накануне приезжали некоторые актеры из разных театров, все время приезжал народ. Около четырех привезли гроб и переложили Маку с кушетки, на кот(орой) он лежал, после чего на погребальной машине мы, окружая гроб, поехали в Дом Союза советских писателей, где гроб был установлен в зале на постаменте. Постепенно туда стали собираться актеры, писатели, приносили венки – от нашего театра, от Союза писателей, от Большого театра, от театра Вахтангова, от театра Сатиры, от участников спектакля «Турбины», от Качаловых, от нас, от трех семейств очень друживших с ним художников – Вильямса, Эрдмана и Дмитриева (они с женами все время тоже с Люсей, даже по ночам), еще от дружественных каких-то лиц, – гроб был весь заставлен венками. В четверть шестого началась гражданская панихида – были две речи от Союза писателей (писатель Всев. Иванов и драматург А. Файко – сосед Булгаковых по квартире и хороший их друг, говорил он лучше всех), потом от нас – нар. арт. Топорков и от Большого театра – главный их режиссер Мордвинов. После этого постепенно все присутствовавшие становились в почетный караул, по четыре человека в каждой смене. По желанию Миши – музыки не было, а то бы непременно Большой театр и другие прислали бы музыкантов и певцов. Потом постепенно пришедшие ушли, остались мы там, только самые близкие. И потом, за вечер, приходили одиночные друзья, которые не смогли быть на гражданской панихиде. Дежурили члены Комиссии по похоронам, в которую входили писатели, 4 делегата Большого театра и 4 нашего, среди них Веня. Люся, ребята, сестра Маки Елена, художники-друзья, Ермолинские остались там на всю ночь – в Доме Союза сов. пис. предоставили им два кабинета, где можно было отдыхать, – одни сидели у гроба в зале, другие в это время отдыхали. Я уехала с Веней после того, как Люся пошла лечь, Женечка ее уговорил, и Сережка уж сладко спал на диване. Это было примерно в час ночи.
Сегодня к 10 часам 12 марта мы пришли в театр, где собралось много наших, потому что было решено, что тело будет подвезено к Большому театру (он ведь там работал последние годы) и к нашему и будет остановка около подъезда, где соберутся все, кто хочет отдать ему этот долг. Так и было, примерно к 10.40 подъехала машина, на которой был установлен гроб в цветах, затем шла машина с венками и легковая машина, в которой ехала Люся с Сережей (Женечка был около гроба). Процессия остановилась, Люся вышла из машины, к ней подошли некоторые наши, все-то боятся не растревожить подходом, сочувствием. Так постояли. Потом двинулась первая машина, и все, кто стоял на подъезде театра, двинулись за ней, проводив ее до угла, когда она уже постепенно стала уходить быстрее вперед. Люся поедет за гробом до крематория, где тело надо передать для вскрытия, потому что без этого по закону хоронить, а тем более сжигать, нельзя. Сегодня в 5 час. будет кремация. Сейчас из крематория Люся, пока будут производить вскрытие и проводить формальности, поехала домой, где немного отдохнет, а к пяти часам и она, и все мы поедем на кремацию – там тоже ожидается короткая по времени гражданская панихида. Вероятно, через несколько дней будет получена урна – и тогда состоятся похороны ее на кладбище Новодевичьего монастыря. Там у Художественного театра есть свой участок, засаженный вишневыми деревьями, а невдалеке расположены некоторые могилы Большого театра, и вот хотят похоронить урну на границе этой земли. (…)