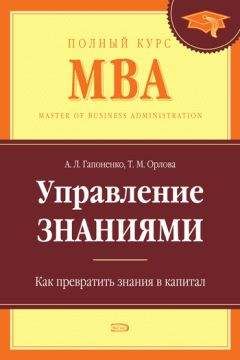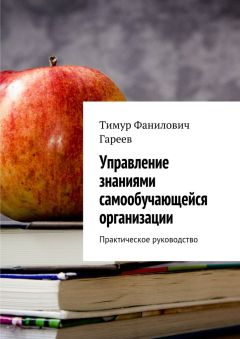Андрей Ашкеров - Экспертократия. Управление знаниями: производство и обращение информации в эпоху ультракапитализма
Для того чтобы эта подмена осуществилась, необходимо найти общий знаменатель для интересов и ценностей, форму их максимально нейтрального совместного обозначения. Ценности должны стать достаточно нейтральными, интересы – вполне приемлемыми. Претерпев подобную трансформацию, они оказываются слитыми воедино в рамках одного общего понятия: «информация».
Тренд «информационная экономика» идеально подходит для создания такой амальгамы. Это и ориентир, к которому следует стремиться, и способ «оптимальной» организации деятельности, и новый символ Современности, и стратегия осуществления изменений. В то же время это еще и институциональный феномен, который позволяет увязать образование и преобразования.
Помимо этого информационная экономика предполагает еще и победу меркантилизма в политике, который становится главенствующей социальной технологией и одновременно основным направлением моральной рефлексии.[36] Восприятие и опыт сопрягаются уже не в психодраме индивидуального существования, а в политико-производственной драме социализации комплексов и капитализации способностей.
Ее героями выступают вовсе не частные лица, вдохновленные целями и устремлениями, а коллективные тела, потребляющие услуги. На макроуровне они выглядят как живые организмы, дальние родственники гоббсова Левиафана, на микроуровне – это абсолютно механистические образования, антропоморфные киборги со сменными пакетами социокультурного софта и биосом «рационального выбора».
Именно эти технологизированные существа без сущности, с легкопротезируемой мировоззренческой оснасткой, выступают объектами биополитики: чтобы существовать, нужно быть чем-то меньшим, чем ты есть. За коллективные тела в целом отвечает уже не биополитика, а технополитика, которая обеспечивает сохранность социальных организмов методом гуманной замены институциональных органов и апгрейда трансгуманистических матриц существования: чтобы существовать, нужно быть чем-то большим, чем ты есть. Технополитика стала стратегией Путина, биополитика на наших глазах становится стратегией Медведева. Залогом этого выступает второе пришествие либерализма, вновь начинающего занимать чуть ли не главенствующее место на авансцене отечественной мысли.
Вместо заключения
Новый футуризм
Какие бы перемены ни ожидали определенное общество, лучшим из перспектив информационной экономики покажется то будущее, которое будет соответствовать господствующим сегодня техникам оформления (или, буквально, ин-формирования) бытия.
Ин-формирование бытия подчиняет его эстезису дизайна, информация превращает мир в сеть. В сетевой феномен преобразуется и человеческая идентичность. Дизайн оборачивается Dasein, здесь-бытием, которое не просто воплощает человеческое присутствие, но делает его производной сетевого доступа к сообществу прошлых, настоящих и будущих поколений. Из перспективы вхождения в сеть любая индивидуальная неповторимость – не просто разменная монета, но побочный продукт стереотипизации людей, осуществляемой в рамках политического производства.
Роль образования в этих процессах огромна. Оно помещает происходящие изменения в горизонт неопределенно далекого будущего. Горизонт этого будущего и есть то, что обычно называется идеалом. Рассмотренная из перспективы общественного идеала проблематика образования трансформируется в проблематику менеджмента познавательных процессов. Менеджмент познавательных процессов распространяется на: управление сферой воображаемого – мы вступаем в эпоху новых мифологий, которые порождаются не недостатком знаний, как в архаическую эпоху, а их переизбытком. Хроническое перепроизводство информационных ресурсов создает условия для создания более разнообразных мифологических систем, которые могут полностью не принимать во внимание существование друг друга. В отличие от времен архаики они соотносятся не с конкретной историей, которой придается статус универсального события, а с событиями, которым благодаря мифу пытаются придать исторический смысл. Однако с течением времени эти мифологические системы оказываются все менее долговечными, они просто-напросто легче забываются. Классическими современными мифами оказываются наиболее политизированные биографии, теории, порожденные предельно острыми формами борьбы за истину, самые парадоксальные и противоречивые тренды; управление способностью суждения – менеджмент воображаемого непосредственно соотносится с управлением вкусами и «способностью суждения» (в кантовском смысле). Собственно именно к способности суждения и сводится политика не только на ее повседневно-массовом уровне, но и на уровне принятия основополагающих решений. Превращаясь в предмет вкусовых оценок, в область вкусов, о которых не стыдно и поспорить, политика делается рефлексивной, даже гиперрефлексивной процедурой (в том числе и потому, что «все о ней думают»). Проблема только в том, что, подобно эстетическому мировосприятию, искушаемому проблематикой возвышенного, эта гиперрефлексивность строится на принципиальной рассогласованности понятий и представлений.[37] Искушение возвышенным в области эстетического возвещает возможность индивидуации, в области политики оно оборачивается социальным атомизмом. Однако это еще не все: атомизация оборачивается деконструкцией понятийного мышления, которое признается тщетным на любом этапе своего применения. Подобный эффект заставляет задуматься о возможности и содержании политической компетенции.[38] Своеобразие политики в эпистемическом аспекте состоит в том, что компетенция в ней связана с организацией пространства принципов и методик, повышение эффективности которых сопутствует игре на понижение ставок знания о политике. В пространстве политического действия работает принцип: «Чем больше думаешь, тем меньше понимаешь», что делает данное пространство привилегированным местом для практики без глубокомысленности и лавирования как формы практического сознания. Современный кризис понятийной рефлексии берет начало в политической процедуре придания смысла хронически воспроизводимому смыслодефициту. Сегодня этот кризис сказывается не только на состоянии умов, но и на состоянии нравов, что является отличительной особенностью эпохи пост-Просвещения.[39]
• управление социальным временем – властвует тот, кто определяет, что считать прошлым, что настоящим, а что будущим, противопоставляет друг другу причины и следствия, формирует исторические хронологии. Это предполагает примат анахронической культуры (например, культуры кампа) над культурой исторической памяти.
Систематическое и целенаправленное забвение позволяет оставлять в истории лишь то, что можно отнести к категории «хорошо забытое старое», вернув впоследствии в качестве нового. При этом элементы исторических последовательностей если не перемешиваются в совсем уж произвольном порядке, то уравниваются друг с другом в своем анахроническом статусе. Все они в одинаковой степени случайны, и все они в одинаковых отношениях с неопределенностью (конингентностью). Это также открывает возможность для создания мифологических систем, каждая из которых связана уже не с принципом неопределенно далекого прошлого, как в классическом мифе, а с принципом неопределенно далекого будущего или с принципом фантастически рискованного настоящего;
• управление природными процессами посредством техники – кульминацией предыдущей фазы развития техники были промышленная революция (XVIII–XIX века) и научно-техническая революция (XX век). Обе они проходили под знаком конфликта с природой, ее «завоевания» и колонизации. При этом предполагалось, что функция техники связана с восполнением того, что в природе не хватает или и вовсе не существует. Современные технические революции связаны уже не с созданием искусственной среды или «второй натуры», а с модификацией и развитием в самой ее первозданности. Символом этой новой фазы технического развития выступает не робот, призванный заменить собой человека, а микрочип, вживляемый в человека и расширяющий его возможности. Человек при этом не преодолевает природу и не «берет» ее милости насильно, он вторгается в нее таким образом, чтобы на все более микроскопических уровнях засвидетельствовать свое единство с ней и с процессами, которые в ней происходят.
Таким образом возникает эффект неоархаики, когда человек вновь обнаруживает свое единство с природой. Правда, происходит это теперь уже не в форме мифа, а в форме технологического взаимодействия, происходящего под знаком биотехнологий (которые сближаются с семиотическими технологиями). В оппозиции к этому процессу находятся, с одной стороны, классические «естествоиспытатели» по образцу XVIII века, с другой – «экологисты» в духе позднего XX века;