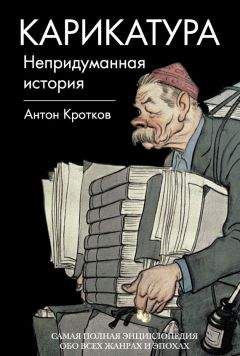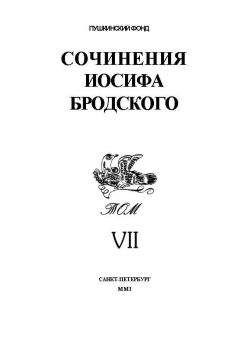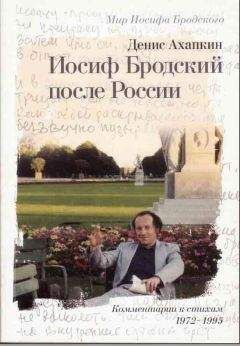Иосиф Бродский - Сочинения Иосифа Бродского. Том VI
Ибо, если вы черный, безработный, живете в гетто и колетесь, проницательность, с которой ваш хорошо обеспеченный религиозный лидер или выдающийся писатель обвиняют в этом рабство, или живость, с которой они описывают его кошмары, не слишком облегчают ваше положение. Вам в голову может даже закрасться мысль, что, если бы не те кошмары, ни их, ни вас сейчас здесь не было бы. Этот вариант, возможно, выглядит предпочтительней, но вряд ли в таком случае генетическая чехарда породила бы вас. Как бы то ни было, сейчас вам нужна работа, а также помощь, чтобы завязать с наркотиками. Историк не поможет вам ни в том, ни в другом. В сущности, он размывает фокус, замещая вашу решимость гневом. Вам даже может прийти в голову — во всяком случае, мне приходит, — что все рассуждения о том, кто виноват, — всего лишь уловка белого человека, отвлекающая вас от радикальных действий, каковых требует ваше положение. Другими словами, чем больше мы учимся у истории, тем менее эффективно мы порой действуем в настоящем.
В качестве банка данных негативного человеческого потенции история не имеет себе равных (кроме, возможно, учения о первородном грехе, которое, если вдуматься, представляет собой данных этих выжимку). В качестве проводника история неизменно страдав от количественной неполноценности, поскольку история, по определению, не дает потомства. Как умственная конструкция, она неизменно страдает от необдуманного смешения ее данных с нашим их восприятием. Это делает историю голой силой — бессвязным, но убедительным анимистическим представлением, чем-то средним между явлением природы и божественным провидением; сущностью, оставляющей след. В дальнейшем нам лучше будет отказаться от высоких картезианских притязаний и, за неимением более четкой придерживаться этой расплывчатой анимистической трактовки.
Позвольте мне повторить: всякий раз, когда история делает очередной ход, она застает нас врасплох. И поскольку общей целью любого общества является безопасность всех его членов, оно первым делом должно постулировать полную произвольность истории и ограниченную ценность любого зафиксированного отрицательного опыта. Во-вторых, оно должно постулировать, что, хотя все его институты стремятся обеспечить максимальную безопасность всем его членам, само это стремление к стабильности и безопасности фактически превращает общество в удобную мишень. И в-третьих, что для общества в целом и каждого из его членов в частности было бы благоразумно разработать модели беспорядочной подвижности (от непоследовательной внешней политики до мобильных жилищ и смены места жительства), дабы физическому или метафизическому врагу труднее было взять вас на мушку. Если вы не хотите быть мишенью, вы должны двигаться. «Рассейтесь», — сказал Всемогущий своему избранному народу, и, по крайней мере на некоторое время, он рассеялся.
Одно из величайших исторических заблуждений, которое я впитал со школьными чернилами, — это представление, что человек эволюционировал от кочевника к оседлому. Такая концепция, довольно мило отражающая как устремления авторитарного государства, так и ярко выраженный аграрный характер страны, лишает человека подвижности. Как парализующий фактор, эта концепция уступает только физическому комфорту городского жителя, порождением которого, по сути, она и является (как и вся масса исторических, социальных и политических теорий последних двух столетий: все они продукты горожан, все они, по существу, урбанистические построения).
Не будем перебарщивать: очевидно, для животного по имени человек оседлое существование предпочтительно и, учитывая нашу растущую численность, неизбежно. Однако нетрудно представить себе оседлого человека, пускающегося в путь, когда его поселение разграблено захватчиками или разрушено землетрясением, или когда он слышит голос своего Бога, обещающего ему другую землю. Столь же легко представить, что он поступит таким же образом, почувствовав опасность. (Не есть ли Божие обетование сигнал опасности?) И тогда оседлый человек пускается в путь и становится кочевником.
Ему легче пойти на это, если его сознание не зашорено эволюционными и историческими табу; и насколько нам известно, древние историки, к их великой чести, таковых не произвели. Вновь становясь кочевником, человек мог бы думать, что подражает истории, поскольку история, в его глазах, сама была кочевником. Однако с приходом христианского монотеизма истории пришлось стать цивилизованной, что она и сделала. Фактически она сама стала ветвью христианства, которое, в конечном счете, является верой сообщества. Она даже позволила подразделить себя на «до Р. X.» и «после P. X.», превратив хронологию периода до P. X. в обратный отсчет, начиная от ископаемых, как будто те, кто жил в тот период, вычитали свой возраст из даты рождения.
Я бы хотел здесь добавить — потому что другого случая может не представиться^ что одним из самых печальных событий в ходе нашей цивилизации явилось противостояние греко-римского политеизма и христианского единобожия, и его известный исход. Ни в интеллектуальном, ни в духовном смысле реальной необходимости в этом противостоянии не было. Метафизических возможностей человека вполне достаточно, чтобы допустить сосуществование вероисповеданий, не говоря уже об их слиянии. Случай Юлиана Отступника — хороший тому пример; равным образом дело обстоит и с византийскими поэтами первых пяти веков после P. X. Поэты в целом дают нам лучшее доказательство такой совместимости, потому что центробежная сила стиха часто уводит их далеко за пределы доктрины, а иногда и за пределы обеих. Действительно ли политеизм греков и римлян и монотеизм христиан были столь несовместимы? Было ли необходимо вышвырнуть в окно столько до-рождественских интеллектуальных достижений? (Чтобы впоследствии облегчить Ренессанс?) Почему то, что могло бы стать дополнением, стало альтернативой? Неужели Бог любви не мог переварить Еврипида или Феокрита, а если не мог, какой же у него был желудок? Или в самом деле, говоря современным языком, все это заварилось ради власти, ради захвата языческих храмов, чтобы показать, кто главный?
Возможно. Но язычники, хоть и побежденные, отвели в своем пантеоне место для Музы Истории, продемонстрировав тем самым лучшее понимание ее божественности, чем их победители Боюсь, что на всем детально прописанном маршруте от греха к искуплению ни подобной фигуры, ни сравнимого кругозора не обнаружить. Боюсь, что гибель политеистской идеи времени от руки христианского единобожия была первым этапом в бегстве человека от чувства произвольности существования в ловушку исторического детерминизма. И боюсь, что именно этот универсализм обнаруживает в ретроспективе редуктивный характер монотеизма — редуктивный по определению.
Их разбитые изваянья,
их изгнанье из древних храмов
вовсе не значат, что боги мертвы. О нет![11]
Так писал греческий поэт Константин Кавафис спустя две тысячи лет после уплощения истории от — подумаем о молодых в этом зале! — стерео до моно. И будем надеяться, что он прав.
Однако ущерб был нанесен истории еще до того, как она стала светской, а затем и просто научной: исторический детерминизм, взявший верх в ходе этих двух тысячелетий, завладел современным сознанием — кажется, необратимо. Различие между временем и хронологией было утрачено — сначала историками, затем их аудиторией. Нельзя винить ни тех, ни других, поскольку новая вера, присвоив языческие храмы, закрепостила и метафизику времени. И здесь я должен вернуться туда, откуда увело меня это отступление, — к кочевникам и оседлым.
«Рассейтесь», — сказал Бог своему избранному народу; и он надолго рассеялся. На самом деле, он уже второй раз говорил евреям о переселении. Оба раза они подчинились, хотя и неохотно. Первый раз они были в пути сорок лет; второй раз это длилось несколько дольше — и, можно сказать, они до сих пор в пути. Недостаток столь долгого передвижения заключается в том, что вы начинаете верить в прогресс: если не в свой собственный, то в исторический. Этот последний я хотел бы проиллюстрировать одним недавним примером, но сначала должен сделать несколько оговорок.
Историческая литература о судьбе евреев в этом столетии обширна, и пытаться добавить к ней что-то качественно новое я не стану. Нижеследующие замечания вызваны как раз изобилием этой литературы, а не ее дефицитом. Точнее, причиной заметок явилось несколько книг на эту тему, которые не так давно попались мне на глаза. Все они объясняли, какое зло и почему причинил евреям Третий рейх; и все были написаны профессиональными историками. Подобно многим книгам до них, они насыщены информацией и гипотезами; кроме того, подобно многим книгам, которые, несомненно, появятся после них, их сильной стороной является объективность, а не страстность. Надо полагать, что это — отражение профессионализма авторов, а не удаленности от событий, обусловленной возрастом авторов. Конечно, объективность — девиз любого историка, поэтому-то страсть, как правило, исключается, ибо она, как говорится, ослепляет.