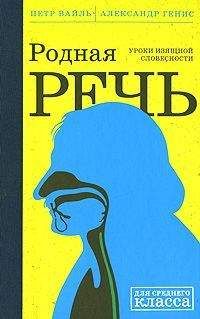Петр Вайль - Потерянный рай. Эмиграция: попытка автопортрета
И вот мы попадаем в нормальное общество, и слой за слоем начинает спадать шелуха этих чудовищных мотивов. Выясняется, что многих и не, сдерживало ничто большее, чем штамп о прописке, что брак заключался не на небесах, а в домоуправлении. Единственное, казалось бы, практически важное — деньги. Но и тут Америка не дремлет. Неработающей женщине даже разводиться не обязательно: объяви себя «сепарейт», и появится и велфэйр, и фуд-стемпы, и квартирная 8-я программа.
Если не было любви, то и привычка исчезнет, и необходимость отпадет. В том числе и в сексе: все те же пресловутые «Хастлер» и «Плейгерл» гарантируют насыщенную интимную, жизнь помимо и вместо брака. Что, может быть, справедливо, если иметь в виду новизну и разнообразие. Брак — это ведь как деньги: или он есть, или нет. Можно быть свободным от брака, можно не быть. Только вот одновременно это не получается.
Правда, есть еще проблема — дети.
Масса семей держатся (или держались) именно на этом: чтобы дети не ощущали отсутствие одного из родителей как протез, чтобы все у них было по-людски, как у других. В этом священном чувстве родительского альтруизма — все ради них вытерпим — угадывается угасший в тумане веков практицизм, когда семье было невыгодно, неудобно, да и просто смертельно опасно дробиться.
Вот и сюда, в эмиграцию, ехали кланами, мечтая о династиях. И тут-то произошла, быть может, самая тяжелая трагедия. Сколько из нас ехали именно из-за детей: сами не сумели, так пусть у них все будет слава Богу. Вырастут свободными людьми, настоящими американцами. В сенаторы выйдут, в миллионеры. Но при этом как-то все забыли, что дети и в самом деле станут американцами, а мы — нет.
Уже в первом классе маленький эмигрант начинает говорить по-английски без акцента, а в третьем — мучительно стесняется своих экзотических родителей. И не только в языке дело. У них все не наше. Сын увлекается музыкой, и мы угодливо поддакиваем: ага, мол, «Битлс», "Роллинг Стоунс". Да какое там — его кумир какой-то Оззи Осборн, который на концерте летучую мышь съел. Оторопь берет. За завтраком сын с ненавистью глядит на отцовскую яичницу с колбасой и наливает жидкое молоко (с витамином "Д") в крошево, больше всего похожее на стружку. Знакомую ленинградку едва откачали, когда 14-летняя дочь поделилась с ней: "Представляешь, мама, Джинн сказала, что признает только орал секс". Имена Яшина и Блохина для них пустой звук, зато все молятся на никому не ведомого Реджи Джексона. И даже вместо Буратино у них — Микки Маус. Уверенно зреет проблема отцов и детей, какая; и не снилась Тургеневу — у него они хотя бы на одном языке говорили.
Вот дети наших детей заинтересуются наследием дедушек и бабушек. Закон третьего поколения гласит: все, от чего отталкиваются дети, привлекает внуков. Это они соберут старые эмигрантские журналы, станут переводчиками, пойдут в слависты, разработают актуальные темы: "Образ чиновника у Боборыкина". Но внуков — взрослых — неплохо бы еще дождаться.
Потому нам и не увидеть преемников. Не будет подрастающей смены эмигрантских, талантов. Будут таланты американские, израильские, австралийские…
Так и получается, что и этот — вернейший — оплот семьи рушится. И даже без возможности вмешательства. Как в сказке — привезли мы их сюда себе на погибель.
Открытие Америки для мужчины и женщины — событие не равноценное. Женщины открыли ее в большей степени. Современная западная цивилизация предполагает дамскую агрессию. Вообще борьба за равноправие приняла несколько парадоксальные формы: негров не угнетают, а боятся, евреев не презирают, а уважают, женщины же из матерей и жен превратились в суфражисток и амазонок. Наши верные подруги, перенеся годы дефицита и коммунальных квартир, не справились с первым же американским искушением — проблемой выбора. Они стали бороться за свое святое право на слабость. На обед готовят френч фрайс, пьют дайет пепси, читают только «Космополитен» — и то исключительно о проблемах оргазма. Короче, воплощенная мечта Александры Коллонтай, или — наверстывание упущенного. Открывшиеся возможности ослепили нас настолько, что любовь стала синонимом свободы, а брак — рабства. Необходимое равновесие неизбежно придет. Но не состаримся ли мы в ожидании его?
Массовая культура
Мы, нынешние эмигранты, были, пожалуй, самой либеральной и свободомыслящей прослойкой населения Советского Союза. Мы были чужие — уже хотя бы потому что евреи, мы были недовольны всем вокруг и мы помышляли о том, чтобы покинуть эту страну. Естественным образом нам нравилось все, что шло вразрез с установленным и общепринятым — от иудаизма до абстрактной живописи.
И вот мы оказались в Америке — самой свободной стране мира. Мы бросились восполнять пробелы. Нам не показывали Феллини — и мы с восторгом смотрим «Амаркорд». Там не печатали Генри Миллера — мы с настороженным интересом читаем "Тропик Рака". Мы только понаслышке знали о современной американской живописи — и недоуменно пожимаем плечами у полотен Раушенберга. Мы возмущались ханжеской цензурой — и с негодованием отворачиваемся от разверстых красавиц на газетных стендах. Мы огорчались запретами на современную музыку — и горько жалеем, что нет разрешения на отстрел всех, у кого в руках транзистор.
Массовая культура, известная но мягким голосам дикторов Би-Би-Си, рассказам знакомых моряков и журналу «Америка», обрушилась на несчастного эмигранта. Причем сюрпризы поджидали и в количественном, и в качественном плане. Никто не ожидал, что ее, массовой культуры, так много и она так уверенно и настойчиво входит в жизнь. А главное — она потеряла свою социально-общественную нагрузку и превратилась в самое себя.
В Союзе будущий эмигрант хранил «Плейбой» где-то рядом с сочинениями Солженицына и Бубера и рассуждал о живописи нонконформистов. Ведь это были знаки общественного этикета, которые ставили такого человека в "естественную оппозицию газете «Правда», Юрию Андропову и картине "Конный переход жен начсостава".
Здесь эмигрант больше всего боится, что «этими» журналами заинтересуется его дочь, и ничего не желает понимать в рисовании белым по белому. Потому что теперь он не зависит от Юрия Андропова, плюет на газету; «Правда» и полотно "Добродетели представляют российское юношество Минерве".
Мы как-то были на выставке художников-нонконформистов и видели, как один диссидент, воровато оглянувшись, попытался смахнуть согнутым пальцем избушку с картины: очевидно, предположив, что это налипшая грязь. Мы стояли за бронзовым монстром Эрнста Неизвестного, и диссидент нас не заметил. Нельзя быть уверенным, что он высказался бы за бульдозеры, но и прощать бы не стал.
В одной компании мы разговорились с милым парнем, любителем Окуджавы и Тарковского. Разговор зашел о книге Лимонова, и наш собеседник как-то внезапно потерял человеческий облик: "Единственное министерство, которое я хотел бы возглавить — это министерство по уничтожению Лимонова!"
Кошмар этого комичного заявления не только в том, что автора хорошо бы физически ликвидировать за книгу, но и в пожелании организовать для этого целый департамент. То есть поставить дело на широкую государственную ногу — со штатом служащих, вахтером, расстрельной командой…
Книга Лимонова, говорят, идет в Москве на черном рынке по 100 рублей за штуку. И наверняка кто-то плюется (уж очень неаппетитны там интимные сцены), но при этом — покупает, считает за честь держать дома: "Во, у них там свобода, а мы тут жвачку потребляем…".
Вкусы становятся независимыми только тогда, когда на них не оказывается организованное давление. Явления культуры лишаются идеологической нагрузки, приобретая самоценное значение, и человек получает право свободного выбора.
Наша эмиграция уверенно сделала выбор, почти поголовно перейдя из либералов в охранители.
Но охранители чего?
Мы, живя в Америке, вовсе не уподобляемся американским охранителям и консерваторам. Они пытаются уберечь от разгула современного мира свои ценности: религиозность, христианскую мораль, патриархальную демократию. Это же все не наше, мы о таком даже не слыхали.
Мы цепляемся здесь за свои чудовищные и курьезные достижения, взлелеянные тысячелетием антидемократического российского правления и усугубленные послереволюционными годами. В нашей печати как-то развернулась широчайшая кампания осуждения эмигранта, который возвратился в Советский Союз. Соплеменники не оставили от него камня на камне, как-то позабыв, что свобода передвижения, за которую они так боролись, подразумевает свободу как выезда, так и въезда. И чем мы отличаемся от ненавидевших нас начальников отделов кадров?
Увы, наши ценности сводятся к незатейливой и жалкой формулировке: "Не высовывайся!"
Проще всего, конечно, предъявить такое требование к искусству, и эмигранты, осмотревшись в Америке, обратились к своему, родному, привычному. Без этих, знаете ли, ихних штучек.