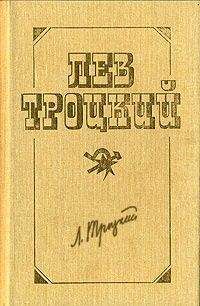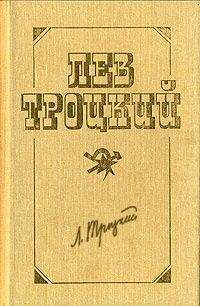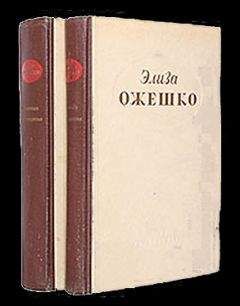Лев Троцкий - Историческое подготовление Октября. Часть I: От Февраля до Октября
Когда нас уводили из лагеря, пленные устроили нам проводы, навсегда врезавшиеся в нашу память. Офицеры и унтера, вообще патриотическое меньшинство, замкнулись в своих отделениях, но «наши», интернационалисты, стали двумя шпалерами вдоль всего лагеря, оркестр играл социалистический марш, руки тянулись к нам со всех сторон… Один из пленных произнес речь, в которой выразил свой восторг перед русской революцией, послал свое честное проклятие германскому правительству и просил нас передать братский привет русскому пролетариату. Так братались мы с немецкими матросами в Амхерсте. Правда, мы тогда еще не знали, что собственные князя Львова циммервальдцы Церетели и Черновы считают братание противоречащим основам международного социализма. В этом они сошлись с гогенцоллернским правительством, которое тоже запретило братание – правда, с менее лицемерной мотивировкой.
Незачем говорить, что американско-канадская печать объясняла взятие нас в плен нашим «германофильством». Отечественные желто-кадетские газеты встали, разумеется, на тот же самый путь. Обвинение в «германофильстве» мне приходится во время войны выслушивать не впервые. Когда французские шовинисты подготовляли мою высылку из Франции, был пущен слух о моих пангерманистских тенденциях. Но сама же французская пресса сообщила перед тем о моем заочном осуждении в Германии к тюремному заключению за немецкую брошюру «Der Krieg und die Internationale»,[42] направленную против германского империализма и политики официального большинства немецкой социал-демократии. Опубликованная в Цюрихе в начале войны, эта брошюра была провезена швейцарскими социалистами в Германию и там распространялась теми самыми социалистами левого крыла, друзьями Либкнехта,[43] которых немецкая желтая пресса травила, как агентов царя и лондонской биржи. В гнусностях Милюковых и всех его Гессенов[44] по нашему адресу нет, таким образом, ничего самобытного. Это подстрочный перевод с немецкого языка.
Сэр Бьюкенен,[45] посол Англии в Петрограде, пошел дальше: он прямо сообщил в своем предназначенном для газет письме, что мы возвращались в Россию с субсидированным немецким правительством планом низвержения Временного Правительства. В «осведомленных» кругах, как нам передают, называли даже и размеры субсидии: ровным счетом 10.000 марок. В такую скромную сумму, выходит, оценивало немецкое правительство устойчивость правительства Гучкова-Милюкова!
Английской дипломатии, вообще говоря, нельзя отказать ни в осторожности, ни в декоративном чисто-внешнем «джентльменстве». Между тем заявление английского посла о полученной нами немецкой субсидии явно страдает отсутствием обоих этих качеств: оно низко и глупо в равной степени. Объясняется это тем, что у великобританских политиков и дипломатов есть две манеры: одна – для «цивилизованных» стран, другая – для колоний. Сэр Бьюкенен, который был лучшим другом царской монархии, а теперь перечислился в друзья республики, чувствует себя в России, как в Индии или Египте, и потому не усматривает никаких оснований стесняться. Великобританские власти считают себя в праве снимать русских граждан с нейтральных пароходов и заключать в лагерь для военнопленных; великобританский посланник считает возможным выступать против русских революционных деятелей с самой низкопробной клеветой. Этому поистине пора бы положить конец. И цель настоящей брошюры – содействовать ускорению того момента, когда революционная Россия скажет г. Бьюкенену и его хозяевам: «Потрудитесь убрать ноги со стола!».
ГОСПОДИНУ МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Милостивый государь!
Настоящим моим письмом я имею честь обратить ваше внимание на совершенно невероятное, чисто пиратское нападение, которому я подвергся, вместе со своей семьей и несколькими другими русскими гражданами, со стороны агентов английского правительства, состоящего, насколько известно, в союзе с тем правительством, которое имеет вас своим министром иностранных дел.
25 марта, опираясь на опубликованную вашим правительством амнистию, я явился в нью-иоркское генеральное консульство, откуда был уже к тому времени удален портрет Николая II, но где еще царила плотная атмосфера старорежимного русского участка. После неизбежных препирательств генеральный консул распорядился выдать мне документы, пригодные для проезда в Россию. В великобританском консульстве в Нью-Йорке, где я заполнил соответственные вопросные бланки, мне было заявлено, что со стороны английских властей не будет никаких препятствий к моему проезду. Из помещения великобританского консульства я, в присутствии одного из чиновников, телеграфировал в русское консульство и получил оттуда подтверждение того, что все необходимые формальности мною выполнены и что я могу без затруднений совершить свое путешествие.
27 марта я выехал с семьей на норвежском пароходе «Христианиафиорд». В Галифаксе (Канада), где пароход подвергается досмотру английских военно-морских властей, полицейские офицеры, просматривавшие бумаги американцев, норвежцев, датчан и других лишь с чисто формальной стороны, подвергли нас, русских, прямому допросу, в стиле старых отечественных жандармов, насчет наших убеждений, политических планов и пр. Согласно доброй революционной традиции, я отказался вступать с ними в разговоры на этот счет, разъяснив им, что готов дать им все необходимые сведения, устанавливающие мою личность, но что отношения внутренней русской политики не состоят пока что под контролем великобританской морской полиции. Это не помешало господам сыскным офицерам, Мекену и Вествуду после вторичной попытки допроса наводить обо мне справки у других пассажиров, напр., у г. Фундаминского, причем сыскные офицеры настаивали на том, что я terrible socialiste (страшный социалист). Весь, в общем, розыск имел настолько недостойный характер и ставил бывших русских эмигрантов в столь исключительное положение по сравнению с другими пассажирами, не имевшими несчастья принадлежать к союзной Англии нации, что некоторые из нас сочли своим долгом передать через капитана парохода энергичный протест великобританским властям против поведения их полицейских агентов. В тот момент мы еще не предвидели дальнейшего развития событий.
3 апреля на борт «Христианиафиорд» явились английские офицеры, в сопровождении вооруженных матросов, и от имени местного адмирала потребовали, чтобы я, моя семья и еще пять пассажиров, г.г. Чудновский,[46] Мельничанский,[47] Фишелев, Мухин и Романченко, покинули пароход. Что касается мотивов этого требования, то нам было обещано «выяснить» весь инцидент в Галифаксе.
У английских властей не было, по собственному заявлению их офицеров, никаких сомнений относительно моей личности, как и личности остальных, кого они подвергли задержанию. Было ясно, что нас задержали, как социалистов, действительных или предполагаемых, т.-е. как противников войны. Мы объявили требование покинуть пароход незаконным и отказались подчиниться ему. Тогда вооруженные матросы при криках «shame!» (позор) со стороны значительной части пассажиров снесли нас на руках на военный катер, который под конвоем крейсера доставил нас в Галифакс. Когда матросы держали меня на руках, мой старший мальчик подбежал ко мне на помощь и крикнул: «Ударить его, папа?». Ему 11 лет, господин министр, и я думаю, что у него на всю жизнь сохранится яркое представление о некоторых особенностях правящей английской демократии и англо-русского союза. В Галифаксе нам не только ничего не «объяснили», но даже отказали в вызове местного русского консула, заверив, что консул имеется в том месте, куда нас должны доставить. Заявление это оказалось ложью, как и все остальные заявления великобританских сыскных офицеров, которые по своим приемам и по своей морали всецело стоят на уровне старой русской охранки. На самом деле нас доставили по железной дороге в Amherst, лагерь, где содержатся немецкие пленные. Здесь нас подвергли в конторе обыску, какого мне не приходилось переживать даже при заключении в Петропавловскую крепость. Ибо раздевание донага и ощупывание жандармами тела в царской крепости производилось с глазу на глаз, а здесь, у демократических союзников, нас подвергли бесстыдному издевательству в присутствии десятка человек. И те командующие канальи, которые заведовали всем этим, прекрасно знали, что в нашем лице имеют русских социалистов, возвращающихся в свою освобожденную революцией страну. Только на другой день утром комендант лагеря, полковник Моррис, официально изложил нам причины нашего ареста: «Вы опасны для нынешнего русского правительства», – заявил он нам. И после нашего естественного указания на то, что агенты русского правительства выдали нам проходные свидетельства в Россию, и что заботу о русском правительстве нужно предоставить ему самому, полковник Моррис возразил, что мы «опасны для союзников вообще». Никаких письменных документов о задержании нам не предъявлялось. От себя лично полковник присовокупил, что, как политические эмигранты, которым, очевидно, недаром же пришлось покинуть собственную страну, мы не должны удивляться тому, что с нами сейчас происходит. Русская революция для этого человека не существовала. Мы попытались объяснить ему, что царские министры, превратившие нас в свое время в политических эмигрантов, сами сидят сейчас в тюрьме, но это было слишком сложно для г. коменданта, который сделал свою карьеру в английских колониях и на войне с бурами. Для характеристики этого достойного представителя правящей Англии достаточно сказать, что по адресу непокорных или неуважительных пленных он имеет обыкновение приговаривать: «Попался бы ты мне на южно-африканском побережье»… Если было сказано, что стиль – это человек, то можно с таким же основанием сказать, что стиль – это система, – великобританская колониальная система… Мы были для полковника Морриса политическими эмигрантами, мятежниками против законных властей, и, стало быть, лагерь для военнопленных являлся для нас самым натуральным местожительством.