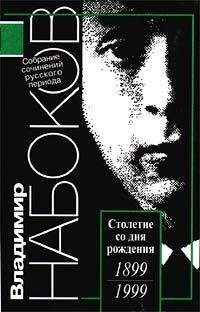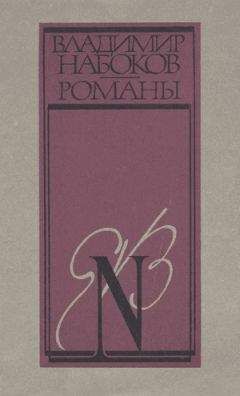Владимир Набоков - Набоков о Набокове и прочем. Рецензии, эссэ
Второй пример «своеобразного французского» касается слова «monde» в значении «модный свет», которое подробно описано в моем примечании к восьмой строке V строфы первой главы (le monde, le beau monde, le grand monde). Если верить г-ну Уилсону, в переводе поэмы оно всегда должно употребляться с артиклем «1е». Это, конечно, нелепая привычка (отстаиваемая главным образом теми, кто, подобно г-ну Уилсону, очень неуверен в себе и чувствует неловкость, употребляя «1е» и «1а»), в результате которой могло бы появиться выражение «le noisy monde» вместо «the noisy monde» (в главе восьмой, строфа XXXIV, строка 12). Английские писатели восемнадцатого и девятнадцатого столетия писали «the monde», а не «le monde». Уверен, что, если бы г-н Уилсон справился в Большом Оксфордском словаре, которого сейчас нет передо мной, он нашел бы примеры из Уолпола, Байрона, Теккерея и других писателей, подтверждающие мои слова. Что достаточно хорошо для них, то достаточно хорошо для Пушкина и для меня.
И наконец, в этой своеобразной группе своеобразных французских слов присутствует слово «sauvage», которое, как считает г-н Уилсон, не должно было появляться в моем переводе пятой строки в главе второй, строфа XXV: «дика, печальна, молчалива» — «sauvage, sad, silent»; но, не говоря уже о том, что в английском нет точного эквивалента слова «дика», я выбрал это знаковое слово, чтобы предупредить читателей, что Пушкин употребил «дика» не просто в смысле «wild» или «unsociable», но как перевод галльского «sauvage». Кстати сказать, оно часто употреблялось в английских романах того времени наряду с «monde» и «ennui».
«Что же касается античной классики, — говорит г-н Уилсон, — тo Zoilus следует писать Zoïlus, a Eol — Aeolus». Но в первом случае диакритический знак — это явное излишество (см., например, словарь Уэбстера), a «Eol» — поэтическое сокращение, постоянно встречающееся в английской поэзии. Кроме того, г-н Уилсон может найти его полную форму в моем Указателе. Я не могу помешать моему собственному Зоилу подделываться под дерзкого отличника-гимназиста, но, ей-богу, ему не стоило бы учить меня написанию множественного числа от «automation», которое имеет два окончания, и оба правильные. И чего он хочет добиться, упрекая меня в том, что я Теокрита предпочитаю Вергилию, и, подумать только, намекая, что я не читал ни того, ни другого?
Странное дело происходит и со словом «штос». «Что имеет в виду Набоков, — вопрошает г-н Уилсон, — говоря о пристрастии Пушкина к штосу? Это не английское слово, и, если он имеет в виду древнееврейское обозначение нонсенса, которое перешло в немецкий, в таком случае его следует выделять курсивом и прописными. Но даже если мое предположение верно, вряд ли в этом есть смысл». Это не мой нонсенс, а нонсенс г-на Уилсона. «Штос» (stoss) — это английское название карточной игры, о которой я подробно говорю в моих примечаниях об увлечении Пушкина азартными играми. Г-ну Уилсону и впрямь не помешало бы заглянуть в кое-какие мои примечания (и в словарь Уэбстера).
Далее предметом рассмотрения становится стиль Набокова. Мой стиль, может быть, и впрямь, как говорит г-н Уилсон, — корявый, пошлейший и прочее. Но что касается приводимых им примеров, то тут он не настолько коряв, пошл и прочее. Если, переводя «тоска любви Татьяну гонит» (глава третья, строфа XIV, строка 1): «the ache of love chases Tatiana» (а не «the ache of loss», как нелепо перевирает мой перевод г-н Уилсон), я ставлю «chases», а не «pursues», что осмеливается мне предлагать г-н Уилсон, я делаю это не только потому, что «pursues» по-русски означает не «гонит», а «преследует», но также и потому, что не желаю вводить в заблуждение читателей повтором «pursue», использованного в предыдущей строфе, чего г-н Уилсон не заметил, («тебя преследуют мечты» — «daydreams pursue you»), и мой метод заключается в том, чтобы точно следовать за Пушкиным и повторять слово, только если он повторяет его.
Когда няня говорит Татьяне: «Ну, дело, дело. Не гневайся, душа моя», и я перевожу ее слова таким образом: «this now makes sense, do not be cross with me, my soul», г-н Уилсон тоном, напоминающим о каком-нибудь французском педанте семнадцатого века, рассуждающем о высоком и низком стиле, заявляет, что «make sense» и «my soul» плохо сочетаются, как будто ему ведомо, какие в русском просторечии выражения сочетаются хорошо, а какие плохо.
Как я уже говорил, многие из повторяющихся слов, которые я использую (ache, pal, mollitude и так далее), — это, в моем определении, слова «сигнальные», иначе говоря, призванные, среди прочего, указывать на повторяемость соответствующего русского слова. Стиль, как же, как же! Я хочу снабдить читателей верной информацией, а не примерами «верного стиля». Я перевожу «очень мило поступил… наш приятель», в начале главы четвертой, строфа XVIII (которая также является началом наименее художественной части строф XVIII–XXII этой главы), следующим образом: «very nicely did our pal act», и г-н Уилсон находит, что здесь я «выражаюсь вульгарно»; увы, г-н Уилсон без оглядки топает по дорожке, на которую я едва дерзаю ступать, потому что и не подозревает о том, что русская фраза тоже трафаретна и тривиальна. Просто нет иного способа перевести это жеманное «очень мило» (Пушкин тут передразнивает глуповатого читателя); и если я предпочитаю в этом и в других случаях использовать сигнальное слово «pal», чтобы передать разговорный характер слова «приятель», то потому, что иначе это выразить нельзя. «Pal» сохраняет оттенок непривлекательной легкомысленности, присущей слову «приятель» в данном контексте, и к тому же воспроизводит его первую и последнюю согласные. Выражение «приятель Вильсон», например, выглядело бы легкомысленно и прегадко и было бы неуместно в серьезном полемическом тексте. Или г-н Уилсон в самом деле считает, что профессор Арндт лучше перевел данное место? («My reader, can you help bestowing praise on Eugene for the fine part he played with stricken Tanya?») Последний из приводимых г-ном Уилсоном примеров «плохого стиля» относится к концу главы седьмой, строфа XXXII. Переводя элегические строки, в которых Татьяна прощается со своим сельским домом, мне надобно было учесть их схожесть с юношеской элегией Пушкина, обращенной к любимой деревне («Прощайте, верные дубравы…» и так далее), а также с последними стихами Ленского. Надо было точно передать их сходство. Вот почему я заставляю Татьяну выражаться в манере высокопарной и устарелой: «Farewell, pacific cites, farewell, secluded [обратите внимание на вышедшее из употребления произношение соответственного «уединенный»] refuge! Shall I see you?» («Простите, мирные места! прости, приют уединенный! Увижу ль вас?..»). «Подобные фрагменты, — говорит г-н Уилсон, — напоминают мне продукцию компьютеров, предназначенных для перевода с русского на английский». Но ввиду того что в те компьютеры вводят лишь тот элементарный русский, которым владеет г-н Уилсон, а программы для них составляют антропологи и авангардные лингвисты, они и выдадут его комические версии, а не мой корявый, но скрупулезно точный перевод.
Наверно, самое разухабистое место в разносной критике г-на Уилсона — это то, где он предлагает собственный нелепый перевод как верх совершенства, коему мне следовало бы стараться подражать.
Я перевожу «гусей крикливых караван тянулся к югу» (глава четвертая, строфа XLI, строки 11 и начало 12) следующим образом: «the caravan of clamorous gees was tending southward», но, как я объясняю в своем комментарии, «крикливых», согласно словарям, передается английским «screamy»,[27] а характерное русское «тянулся» необычайно богато оттенками смысла, среди которых значение «продвигаться в том или ином направлении» превалирует над примитивным «stretching», предлагаемым карманными словарями (см. также примечание к 14-й строке IV строфы главы седьмой). Г-н Уилсон думает, что в его собственном переводе описания прихода зимы в главе четвертой, который я частично привожу в своем Комментарии, по доброте своей выделяя его ошибки курсивом, он «почти буквально точен и более поэтичен, чем Набоков». Говоря «почти», автор очень снисходителен к себе, поскольку его «loud-tongued gees» так лирично, что дальше некуда, а «stretching» не выявляет основной элемент контекстуального значения слова «тянулся».
Еще забавней то, как г-н Уилсон тщится показать мне, как нужно правильно переводить строки: «его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь» (глава пятая, строфа II, строки 3–4), в моем буквальном переводе — «his naggy, having sensed the snow, stambles at something like a trot». Собственная его попытка, выглядящая следующим образом: «his poor(?) horse sniffing(?) the snow, attempting(?) a trot, plods(?) through it(?) (бедная лошадь, чуя снег, пытается бежать рысью, но вместо этого плетется по нему)», кроме того, что содержит множество вопиющих переводческих ошибок, это еще и пример небрежного английского языка. Если, тем не менее, мы устоим перед обманчивым искушением предположить, что «бедная лошадь» г-на Уилсона плетется рысью, как в моем варианте, и представим, что она плетется по снегу г-на Уилсона, то увидим нелепую картину, где несчастное вьючное животное с трудом пробирается по этому снегу, меж тем как на самом деле Пушкин славит легкость, а не тяжкие усилия. Крестьянин не «rejoicing» (радуется) и не «feeling festive» (ощущает душевный подъем), как пишут перелагатели (не зная, в каком значении Пушкин в данном и в других случаях употребляет слово «торжествовать»), но «celebrating», то есть празднует (наступление зимы), ввиду того что снег под полозьями саней облегчает бег лошадки и особливо мил его сердцу после долгой бесснежной осени с ее заполненными жидкой грязью дорожными колеями, в которых вязнут колеса телеги.