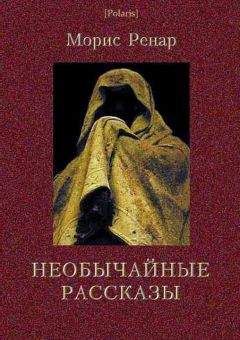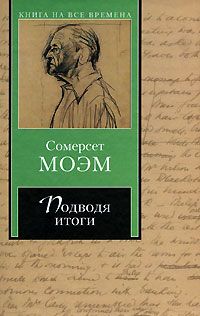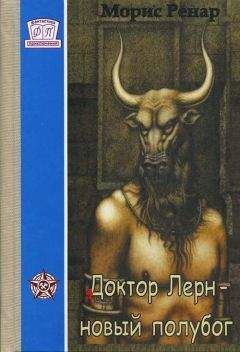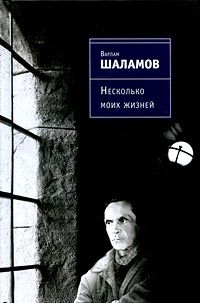Сомерсет Моэм - Записные книжки
Сюда приходят американские дельцы, моряки, но не ловкие матросы, а капитаны, механики и первые помощники, а также лавочники и канаки. Здесь проворачиваются всевозможные сделки. Атмосфера в заведении слегка таинственная, вполне, надо полагать, подходящая для сомнительных афер. Днем в салуне полутемно, а вечером электрические лампы горят холодным зловещим светом.
* * *Китайский квартал. Целые улицы каркасных домов, одно-, двух- и трехэтажных, окрашенных в разные цвета, но от времени и непогоды приобретших общий грязно-серый оттенок. Дома выгладят обветшалыми, будто кончается срок аренды и временным владельцам нет смысла их ремонтировать. В лавках есть все товары, которые только способны поставить Запад и Восток. В них, праздно разглядывая прохожих, сидят бесстрастные приказчики-китайцы. Иной раз поздним вечером видишь, как в одной из лавок двое, оба желтолицые, морщинистые, раскосые, сосредоточенно играют в таинственную игру, возможно, китайский вариант шахмат. Вокруг стоят зрители, с неменьшим напряжением наблюдающие за партией, а соперники немыслимо долго размышляют, тщательно просчитывая каждый ход.
* * *Квартал красных фонарей. Идешь темными улочками возле порта, проходишь по шаткому мостику и оказываешься на разбитой, в рытвинах и ухабах улице; немного дальше уже можно по обе стороны ставить машины; весело светятся окна кабачков и цирюльни; здесь ощущается какое-то подспудное возбуждение, ожидание чего-то волнующего; сворачиваешь в узкий переулок либо направо, либо налево, и ты уже на месте. Ивелеи делится здесь на две части, причем совершенно одинаковые. Ряды маленьких одноэтажных домиков, выкрашенных в зеленый цвет и с виду очень опрятных, даже чинных, стоят по сторонам широкой и прямой улицы.
По планировке Ивелеи похож на город-сад, и от его величавой правильности, благообразия и ухоженности веет сардоническим ужасом, ибо нигде больше не подходят к поиску любовных утех столь же планомерно и методично. Нарядные домики разделены на две части, каждую занимает одна женщина. Квартирка двухкомнатная, с крошечной кухонькой, в одной из комнат спальня, там стоит комод, пара стульев и большая кровать под пологом и с драпировками. Спальня кажется страшно тесной. В гостиной большой стол, граммофон, иногда пианино и полдюжины стульев. На стенах флажки с выставки в Сан-Франциско, иногда дешевые литографии, чаще всего «Сентябрьское утро» и фотографии с видами Сан-Франциско и Лос-Анджелеса. В кухоньке кавардак. Здесь для посетителей наготове джин и виски. Женщины сидят у окон, чтобы их можно было получше разглядеть. Одни читают, другие шьют, не обращая внимания на прохожих; некоторые, завидев мужчину, следят за ним глазами и, когда он идет мимо, окликают. Женщины здесь всевозможных возрастов и национальностей. Японки, негритянки, немки, американки, испанки. (Там граммофон частенько наигрывает испанские народные мелодии, и тогда вдруг накатывает необъяснимая ностальгия.) У многих не осталось и следа молодости или красоты — невольно удивляешься, как с такой внешностью им удается зарабатывать на жизнь. Щеки густо нарумянены, а сами они разодеты с дешевой пышностью. Как только заходишь в дом, на окнах опускаются шторы, и если кто-нибудь стукнет в дверь, в ответ раздается: «Занято». Посетителя первым делом угощают пивом, причем хозяйка сообщает, сколько стаканов она в этот день уже выпила. Заводится граммофон. Стоит все удовольствие один доллар.
Улицы освещены редкими фонарями, но главным образом светом из открытых окон одноэтажных домиков. По улицам, как правило молча, бродят мужчины и разглядывают женщин; время от времени кто-нибудь, решившись, торопливо взбегает по трем ступенькам, ведущим прямо в гостиную. Его впускают в дом, после чего дверь и окно захлопываются, шторы опускаются. Большинство мужчин ходят сюда только поглазеть. Они самых разных национальностей. Моряки со стоящих в порту кораблей, матросы, почти сплошь пьяные, с американских канонерок, гавайцы, солдаты, белые и чернокожие, из расквартированных на острове полков, китайцы, японцы. Они слоняются в ночной тьме, и кажется, самый воздух содрогается от желания.
* * *Некоторое время об этом позорящем город квартале писали местные газеты, шумно возмущались миссионеры, но полиция не желала и пальцем шевельнуть, ссылаясь на то, что на Оаху преобладают мужчины и потому проституция неизбежна, а если она сосредоточена в одном определенном месте, ее легче контролировать и держать под надежным медицинским надзором. Но газеты продолжали свои нападки, и в конце концов полиции пришлось принять меры. Была проведена облава, арестовали четырнадцать сутенеров. Согласно полицейскому протоколу, они, как ни странно, в большинстве своем оказались французами. Видимо, эта профессия особенно привлекает граждан Франции. Несколько дней спустя всех женщин вызвали в суд и предупредили, что если в течение года они будут замечены в неблаговидном поведении, им не миновать тюрьмы. Большинство тут же укатило назад в Сан-Франциско. В ночь облавы я приехал в Ивелеи. Чуть ли не все домики стояли закрытыми, на улицах почти пусто. Кое-где кучками по трое-четверо собирались женщины и вполголоса обсуждали новости. Кругом было темно и тихо. Ивелеи пришел конец.
* * *«Хаула». Маленькая гостиница, расположенная с наветренной стороны острова Оаху, держит ее швейцарский немец с женою-бельгийкой. Это одноэтажный деревянный дом с просторной верандой, для защиты от москитов двери затянуты проволочной сеткой. Швейцарец мал ростом, у него квадратная немецкая голова, слишком большая для такого щуплого тела; он лыс, зато его украшают длинные неопрятные усы. Жена его — степенная, грузная, краснолицая, с каштановыми, сурово зачесанными назад волосами. Судя по всему, очень сноровиста и деловита. Оба любят поговорить о родных краях, которых не видали семнадцать лет, — он о Берне, а она о деревушке под Намюром, где ей случилось родиться. После обеда хозяйка приходит в общую гостиную и, раскладывая пасьянс, болтает с постояльцами, вскоре появляется хозяин, он же повар, и усаживается посплетничать.
Отсюда ходят к священному водопаду — сначала через поля сахарного тростника, а потом вдоль узкого ручья вверх по горному склону. Тропинка бежит то по одному берегу, то по другому, поэтому приходится то и дело переходить поток вброд. Если на пути встречается большой плоский камень, то на нем непременно лежат прижатые галькой листья — чтобы не унесло ветром. Этими подношениями хотят умилостивить местное божество. В узком ущелье вода низвергается в глубокое круглое озерцо, окруженное густыми зарослями кустарника, зеленого и на редкость пышного. А дальше, в горах, есть долина, которую, говорят, никто еще не исследовал.
* * *Гавайцы. Цвет кожи у них бывает разный, от медного до почти черного. Росту они высокого, сложены хорошо; нос довольно плоский, глаза большие, губы пухлые и чувственные. Темные волосы мелко курчавятся. Они склонны к полноте, и женщины, изящные и стройные в молодости, с возрастом сильно грузнеют. В старости и мужчины, и женщины становятся безобразными, как мартышки; это особенно странно при той красоте, что присуща им в юности. Быть может, старость хороша лишь тогда, когда ум, активная деятельность или неистовые страсти формируют характер человека. А гавайцы, смолоду ведущие чисто животный образ жизни, с возрастом приобретают и соответствующую внешность.
Канаки в Вайкики. Силач Билл: высокий темнокожий малый с выпяченными губами, хвастливый, как негритянский мальчишка. Гольштинец по прозвищу Клоун: потомок моряка с датского судна, потерпевшего в восемнадцатом веке крушение у одного из этих островов; он бросается в глаза из-за редкостной здесь темно-рыжей шевелюры. Толстяк Миллер: массивный человек с очень смуглой кожей, круглым лицом и с манерами шута, которые плохо вяжутся с его врожденным чувством собственного достоинства.
* * *Хула-Хула. Маленькая комнатка, обставленная плетеной мебелью; оклеенные обоями стены украшены калифорнийскими флажками. В углу, скрестив ноги, сидит на полу старик. Худой, морщинистый, с коротко стриженными седыми волосами, он похож на древнегреческую статую рыбака, с большой достоверностью изображенного в какой-нибудь скульптурной группе. Темное лицо его бесстрастно. Ритмично хлопая ладонями по высушенной бутылочной тыкве, он извлекает из нее странные звуки и вполголоса монотонно поет. Кажется, что он и на миг не замолкает, чтобы набрать воздуху. Под эту музыку танцуют две женщины, обе немолодые, одна толстая, другая тощая. Танцуют они, едва переступая ногами, зато тело у них ходит ходуном. Говорят, будто движения каждого танца соответствуют словам песни, которую тянет старик.
Отъезд. У пристани на пассажиров и их спутников набрасываются женщины, предлагая им lei — гирлянды натуральных или сделанных из желтой папиросной бумаги цветов. Их вешают отъезжающим на шеи. С парохода пассажиры бросают в стоящих на причале разноцветный серпантин, и борт судна весело пестрит полосками желтого, зеленого, голубого и фиолетового цветов. Оркестр играет «Алоаха Ое», и под прощальные крики пароход, разрывая серпантинные ленты, медленно отчаливает.