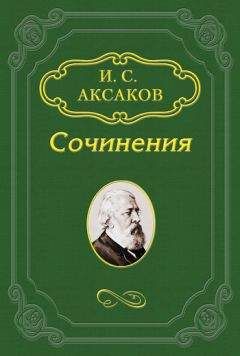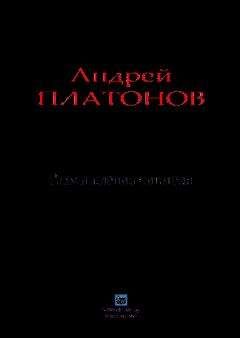Иван Кашкин - Для читателя-современника (Статьи и исследования)
Так в "гуще жизни" открылась Бирсу смерть, так в творчестве житейски бесстрашного человека возникает тема необъяснимого, а часто неопределимого страха, так он становится мономаном этой темы.
Бирс экспериментирует с бациллой ужаса, прививая ее заведомо храбрым людям.
Он не любит и не уважает своих героев. Производя эксперимент, он не жалеет их. Он ставит их в невыгодное, смешное положение. Они, даже самые храбрые из них, просто оцепенелые кролики, подвергнутые мучительной операции. Самая их храбрость чаще всего храбрость на ходулях, мнимая жертвенная храбрость ("Убит под Ресакой") или храбрость упрямца ("Джордж Тэрстон"). Храбрецам этим очень часто приходится преодолевать не действительную опасность, а мнимый ужас, возникающий в их же собственном источенном страхом сознании. Поставив их перед мнимой опасностью, которая, до неизменного иронического разоблачения ее Бирсом, не менее жутка, чем опасность действительная, Бирс как бы издевается над своими жертвами (героями их не назовешь), а заодно и над читателем. Его смех - судорожный, натянутый смех, юмор висельника.
И это не просто желчь или меланхолия. Для Бирса, как и для Марка Твена, такой смех имел чисто прикладное значение.
Ван Вик Брукс очень правильно отметил по поводу весьма обычной для Марка Твена тенденции к развенчиванию романтики ("Янки из Коннектикута" и пр.) или к "низведению с пьедестала" орудием смеха: когда "красота (а в случае Бирса - человеческое достоинство. - И. К.) повергнута во прах, тогда практический человек может снова заняться "делом", очистив свою душу от всех волнующих эмоций (прекрасного)". Ожесточенно воюя против "тлетворной" красоты с позиций реалиста, Твен в полемическом задоре забывал то, что позднее отчетливо сформулировал Чехов: "Некрасивое нисколько не реальнее красивого".
Бирс был человек быстрой реакции, по натуре боец (пускай жизнь порой и принуждала его стрелять из пушек по воробьям). Он давал выход раздражению в личных стычках, в мгновенно возникавших фельетонах, а не в пессимистических излияниях. Он не легко поддавался унынию. "Пока ты в игре, - писал он в статье о самоубийстве, - а это лишь от тебя зависит, проигрыши принимай благодушно и не плачься о них. Сносить их нелегко, но это еще не причина для нытья".
Он был очень живучий, крепкий, рассудочный человек. Свои рассказы писал он редко, когда был в состоянии творческого равновесия. Литературу он расценивал очень высоко и требовал от нее ясности и внутреннего спокойствия. "Если гений - это не ясность, мужество, рассудительность, то я не знаю, что есть гений", - писал он Джорджу Стерлингу. И далее: "Невозможно представить себе Шекспира или Гёте, истекающих кровью и вопящих от творческих мук в тяжких тисках обстоятельств. Великие мне представляются всегда с улыбкой, пусть горькой по временам, но всегда в сознании недостижимого превосходства над ходульными маленькими титанами, докучающими Олимпу бесплодными своими бедствиями и хлопушечными катастрофами".
Он отрицает в творце всякую ложную трагедийность. Но его собственное творчество - судорожная гримаса или бесстрастная маска хирурга-экспериментатора.
Он не хотел и не умел жить единой жизнью как писатель и как журналист. В журналистике он утешался разоблачением мерзавцев или борьбой с ветряными мельницами. В своих рассказах он вырабатывал какую-то несоизмеримую с окружающим исключительность. Пусть это был не Олимп, все же это были недоступные скалы леденящего ужаса.
В том плане, который он искусственно создавал для своего творчества, он, боец по натуре, не только не находил достойных оппонентов, но и просто той питательной среды, которая ему была необходима, как воздух. Его окружала маленькая кучка восторженных поклонников его таланта, покоренных и большим личным обаянием A. G. В. (Almighty God Bierce - всемогущий бог Бирс, как расшифровывали его инициалы насмешники и недоброжелатели), а за их тесным кругом было опасливое молчание людей, дрожавших, как бы не задеть сокрушительного полемиста, и ожесточенная, не имевшая никакого отношения к искусству, площадная брань обиженных или оскорбленных. В такой обстановке не приходилось говорить о творческих спорах и плодотворной критике.
Как бы по привычке, он и в рассказах своих ненавидел и разил, но это была ненависть, перегнанная через много колб и реторт условного искусства, а сатира его была дистиллированным ядом в шприце бесстрастного экспериментатора. Такое искусство не давало человеку-бойцу настоящего удовлетворения. Оставался горький осадок невысказанного, невоплощенного, несделанного.
А на другое искусство он был не способен. Не хватало ему той действенной любви, того мужественного самопожертвования, которое помогло Гёте закладывать шахты в Ильменау, а его Фаусту осушать болота.
Бирс был требователен к себе и не мог не видеть, что он не на высоте своих же собственных требований. Не отсюда ли в этом неукротимом воителе внутренний разлад и творческое иссякание?
5
Бирса надо знать. Его творчество - один из основных этапов развития "страшного" жанра в американской литературе. В нем скрестились традиции романтической фантастики Эдгара По с жестким гротеском юмористов Дальнего Запада (ранний Марк Твен, Артемус Уорд и другие). Но у иных неприкрытую житейскую правду смягчала какая-нибудь условность или эмоция. Гротеск По смягчен его явной фантастичностью, полной невероятностью. Сатира Твена умащена юмором или освежающими воспоминаниями детства на Миссисипи. Бирс суше, резче, судорожнее, обнаженней. Через его вымысел сквозит жестокая правда войны, Дальнего Запада, судебного протокола.
Он воспользовался литературной традицией, но его собственный многосторонний житейский опыт военного, фельетониста, репортера позволил ему по-своему наполнить старые схемы По.
После Бирса жанр страшного рассказа претерпел глубокое снижение. Рассказы По и Бирса послужили образцами, более того - штампами для массового производства подобных рассказов на потребу сотен журналов, девизом которых было недавно повторенное в Америке положение: "Литература не нуждается в качестве". В большой литературе США "страшный" жанр возродился в новом аспекте и с обновленной техникой уже в наши дни в новеллах Фолкнера, Хемингуэя и в некоторых вещах Колдуэлла. Жизнь подсказала им новые аспекты ужаса (у Колдуэлла и новое отношение к ним), тем возродив этот затрепанный в Америке жанр.
Страшная новелла Бирса занимает узловое положение, без нее непонятен переход от По к Крэйну, к Фолкнеру. Однако чтение всего Бирса едва ли много прибавит к огромному впечатлению от немногих его лучших рассказов.
Круг его тем ограничен. В значительной части рассказов это прежде всего анатомирование страха, своего рода "физиология страха" (в старом понимании такого рода "физиологий"), затем анализ состояний аффекта, заскока, мании, случаи напряженного анормального восприятия времени, когда времени больше нет или секунды кажутся вечностью. Все это очень часто подано им то с намеренной гиперболизацией, то с грубым, жестоким, чисто калифорнийским юмором.
Фон, обстановка эксперимента разработана Бирсом с предельным реализмом и тщательностью. То это наукообразное объяснение возможной природы невидимого чудища, которое будто бы окрашено в инфра- или ультрацвет, выходящий за пределы воспринимаемой цветовой шкалы ("Проклятая тварь"), то случай амнезии ("Заполненный пробел"), то предвосхищение идеи радио ("Для Акунда") или механического человека, "робота" ("Хозяин Макстона").
В предисловии к своей ранней лондонской книжке "Утехи дьявола" (1873) Бирс пишет: "При сочинении этой книги мне пришлось прислушиваться к мнению соавтора, так как мой ученейший друг, мистер Сатана, с готовностью помогал мне в этой работе, и многие взгляды, изложенные в этой книге, надо отнести за счет этого достопочтенного джентльмена. План книги разработан мной, дух ее всецело навеян им". И соавтор Бирса, его вдохновитель, его демон - это демон необычайного. Он подсказывает ему темы на грани возможного, на грани вероятного, на грани переносимого.
Характерно, что скептика и позитивиста Бирса болезненно привлекало все внешне необъяснимое, а сатирик в нем охотно разоблачал и высмеивал всех, кто верил в рассказанную им мнимую необъяснимость. Сборник самых невероятных своих рассказов он иронически озаглавил: "Возможно ли это?", а самой интонацией рассказов, постоянной ссылкой на очевидцев и рассказчиков как бы говорит: "Сам я не верю в это, но вот что говорят достоверные свидетели. Я просто перескажу, а то и дам свои объяснения". Подчеркнуто ироническое объяснение к ряду рассказов о привидениях, которых написал он очень много, Бирс сам дал в своем "Словаре Сатаны": "Привидение - внешнее и видимое воплощение внутреннего страха".
Вот типичнейший рассказ Бирса о привидениях - "Кувшин сиропа". Лавочник Димер - домосед и старожил маленького захолустного городка, и двадцать пять лет обыватели привыкли видеть его все на том же месте у себя за прилавком. Наконец лавочник умер и был всенародно похоронен. И вот вскоре после этого "один из самых почтенных граждан Гилбрука", банкир Элвен Крид, придя домой, обнаружил исчезновение кувшина с сиропом, который он только что купил у Димера и принес домой. Повозмущавшись, он вдруг вспоминает, что Димер умер и давно похоронен. Правда, что если нет Димера, то нет и проданного им кувшина, но ведь Димера он только что видел. Так появляется на свет "дух Сайласа Димера". Для его утверждения, как и для материализации "Проклятой твари", Бирс, по примеру По, не жалеет реалистических деталей и полного правдоподобия. Крид в этом уверен, а Крид - почтенный человек. И вслед за Кридом весь город начинает верить в призрак Димера. На другой день вечером толпа горожан осаждает дом Димера, все вызывают духа, требуя, чтобы он показался и им. Внезапно освещается окно лавки (не отсвет ли это соседнего фонаря или противоположного окна - на это указаний нет). Толпа видит Димера, врывается в темную лавку и во тьме и ужасе потасовки окончательно убеждается, что это действительно был дух Димера.