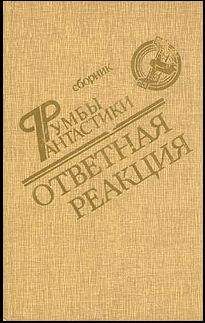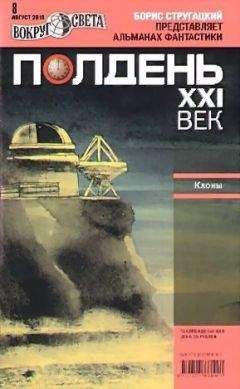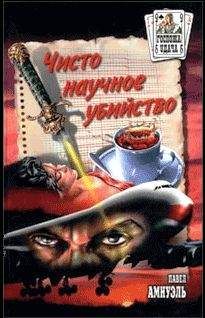Песах Амнуэль - Полдень XXI век, 2010, № 09
— Я только симку выну, — сказал я.
Отколупал крышечку, выдернул аккумулятор, зацепил ногтем прямоугольник сим-карты. Ну вот…
Знакомая ящерка пробралась к затылку. Лизнула холодым язычком.
— Держи! — убрав симку в карман, я подал вновь собранный телефон старику.
Сумасшедший взял мобильник с осторожным благоговением.
— Сколько? Сколько умрет? Людей-человек сколько? — заговорил он, тыкая пальцем в кнопки. — Сколько?
— Не знаю, — подавив дрожь, сказал я.
Старик повернул ко мне лицо и улыбнулся. Широко. Радостно.
— Девятнадцать! — сообщил он. — Да! Девятнадцать! Сколько умрет? Девятнадцать!
Я встал. Нет, я взлетел!
Я показался себе легким, воздушным, наполненным гелием. Девятнадцать! Что ж, за телефон можно… Новый куплю наконец. Можно! Девятнадцать!
Солнце плеснуло, выстрелило сквозь ветви ослепительным зайчиком.
Девятнадцать!
Я уже вырулил обратно на тропу, когда очень простая мысль заставила меня вернуться. Очень простая мысль.
Сумасшедший, слава богу, сидел все там же, пялясь в пустой экран и роняя слюни.
— Извини, — сказал я.
— Дурак! — каркнул он, пряча от меня, накрывая собой телефон. — Дурак!
Я не дал ему подняться.
— Скажи, — я взял его за плечо, худое, с остро выпирающей косточкой ключицы, — а что нужно, чтобы никто не умер? Никто, понимаешь?
— Никто… — эхом отозвался старик.
— Да, никто. Чтобы ник…
Я запнулся.
Вместо светлых и пустых глаз внутрь меня, в душу мне смотрели две дыры. Черные. Беспросветные. Безжизненные.
Я почувствовал на миг, что растворяюсь, проваливаюсь в них. Падаю.
Боль разрывала грудь, невыносимым грузом давило отчаяние, что ничего, ничего невозможно изменить, помешательство оплетало сетью, обездвиживало, высасывало последние крохи разума. Кто я есть? Дурак! Дурак!
— Палец.
Я покачнулся.
— Что?
— Мне нужен палец, — внятно сказал старик.
Глаза его очистились, но сверкали безжалостно.
— Палец?
— Твой палец.
Я мотнул головой.
— Как это?
— Палец!
Сумасшедший цапнул меня за руку, вывернул кисть, ухватился за указательный. Сжал.
— Ах ты!
Я рванулся. Придурок! Палец ему!
Боролись мы недолго. Я все-таки был сильнее. Я победил. Старик тут же сник.
— Сколько? — забормотал он. — Сколько умрет?
— Девятнадцать, — сказал я. — Псих!
Освобожденный палец болел. Я потряс им, потом, коря себя за неосмотрительность, пошел от скамейки прочь. В спину мне прилетело слово. Нет, не дурак. Слово было «трус». Я побежал.
В перерыв меня нашел Жорик.
Мы спустились в пельменную на первом, сели за столик в нише, сделали заказ.
— Впервые тебя таким мрачным вижу, — сказал Жора.
Я отмахнулся.
— Забудь.
— Хорошо-хорошо, не лезу.
Принесли пельмени. Ароматные горки дышали паром, на вершинах их золотом плавилось масло, склоны зеленели петрушкой. Я взял вилку, повертел ее. И отложил.
— Аппетита, — сказал, — что-то нет.
— И напрасно.
Жора посмотрел на меня с укоризной, потом уткнулся в тарелку.
Я наблюдал, как он споро ест. Накалывает пельмени по две, по три штуки, обмакивает в масло, отправляет в рот.
На лбу у него выступила испарина.
Человек, подумал я про него, который ответил: «Восемьсот». Ответил. Не угадал. Жрет пельмени. Дурак, но, наверное, не трус. Трус я.
— Ты хруст все еще слышишь?
— Не-а…
Жорик отвлекся на мгновение от еды, дернул за гибкий черный шнур, торчащий из кармана куртки. В руке у него заболтались маленькие наушники.
— Вот, — сказал он. — Втыкаю — и никаких хрустов тебе. Лозы накачал, Никольского… Ну, это… Мой друг художник и поэт…
Я кивнул, снова взялся за вилку.
— Жор, можно у тебя спросить кое-что?
Жора пожал плечами.
— Если что-то несложное…
— Допустим, — начал я, — кто-то говорит тебе, что определенное число людей скоро умрет, и только от тебя зависит, чтобы они остались живы. Причем, ты не знаешь этих людей. Ни где они находятся не знаешь, ни что им грозит. Ни есть ли, скажем, они вообще.
— Разводилово, — сказал Жорик, жуя. — Как Апокалипсис матушкин.
— Погоди…
— Разводилово — сто процентов.
— Ты дослушай… — я положил вилку, отодвинул тарелку. — И тебе говорят, что никто не умрет, если ты отдашь палец.
— Хренась… — Жорик почесал висок. — Палец-то нахрена?
— Не знаю. Но тебе кажется, что про людей — это все правда.
— Ага! — Жорик подчистил куском хлеба свою тарелку. — С чего кажется-то?
— Ну…
— Леня, — Жорик пошевелил белесыми бровями, — у тебя иногда такие задвиги… Ты вообще пельмени есть будешь?
— Нет, — сказал я.
— Что ж, — Жорик подтянул к себе мою тарелку, — я, конечно, не рассчитывал…
Он нацелился вилкой.
— Тут самое интересное, — сказал я, — что отдашь ты палец и, может быть, никогда и не узнаешь, спас ты людей или нет. Помогло ли.
— Как? — удивился Жорик.
Пельмень повис на зубьях.
— Так. Все люди, понимаешь, останутся живы. Но они, может быть, будут живы и сами по себе. Без пальца. Ты же не знаешь.
— Муть какая-то.
Я встал.
— Может, и муть…
— И тогда колобок сказал: «Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел…»
Иркин голос казался усталым.
Вовка, похоже, сегодня капризничал и ни в какую не хотел засыпать.
Я на цыпочках пробрался на кухню. Включил свет. Блики заплясали на кастрюлях, на пузатых бокалах, шеренгой выстроившихся на подвесном кухонном шкафчике. На ножах.
Я покрутился на месте, сел на стул, глотнул сока из графинчика, скривился — кислый. Встал, прошелся от мойки до холодильника и обратно.
Ножи…
Не задумываясь над тем, что делаю, я взял разделочную доску, вынул нож потяжелее из специального держателя, взвесил, затем наклонил его к доске и вложил под лезвие мизинец.
Наверное, подумал я, это должно быть не слишком больно… Всего-то — опустить нож вниз.
— Лёнчик!
Я обернулся. Ирка стояла в дверях и лицо у нее было белое.
— Лёнчик! Что ты хочешь сделать?
Я посмотрел на нее, на мизинец, на нож.
Будто жаром обожгло щеки. Господи, стыд какой!
— Ир, это ничего… — я поспешно убрал мизинец. — Это, помнишь, в кино про японцев, там они себе в знак верности семье пальцы отрубали…
— И ты решил в знак верности нашей семье…
Она все также стояла, не двигаясь, привидением в ночнушке.
— Нет, ты что! — я отбросил нож. — Просто подумал, каково это…
Ирка кивнула, словно ничего другого и не ждала.
— Между прочим, — сказала, — они там, в Японии, мизинцы не в знак верности резали, а за провинность…
И вышла.
Так и осталось у меня перед Иркой острое чувство несуществующей вины.
Утром, отказавшись от моей помощи, она, взяв Вовку, отправилась по магазинам.
— Не порежься тут без нас, — бросила напоследок.
— Хорошо, — сказал я.
А потом я ждал, ждал, ждал, ждал.
Час. Два. Три. Пока, включив телевизор, не увидел «Маркет-Хауз» с провалившейся внутрь крышей.
В отчете комиссии по расследованию будет указано, что перекрытия были переутяжелены, в опорных колоннах имелись микротрещины, нагрузка на них распределялась неравномерно, а качество бетона оставляло желать лучшего.
Жертв насчитают девятнадцать. Слышите? Девятнадцать!
Ирка и Вовка будут среди них.
Вот так.
Мне часто снится с тех пор: самодельная щелястая скамейка, сумасшедший старик, пробующий пальцем кнопки телефона, и я — стою перед ним, осененный только что пришедшей на ум мыслью.
— Что нужно, — спрашиваю, — чтобы никто не умер?
Качается дохленькая, оборванная сирень. Шелестит ветер.
Старик смотрит на меня черными дырами глаз.
— Палец. Мне нужен твой палец.
И тогда я протягиваю ему руки. Протягиваю, протягиваю…
— Вот, — говорю, — бери все. Бери все.
Александр Мазин
Пятый ангел
Это неправда, что конец света приходит ко всем одновременно. К Иринке Максимовой он пришел на три часа раньше, чем к Павлу Небрашу.
Павел еще выходил из лифта, напевая: «…show must go on…» и бодренько раскручивая на пальце ключи от «Пассата», а для Иринки уже всё, всё закончилось. Она угрюмо посторонилась, пропуская самодовольного дядьку в элегантном костюме при галстуке…
— Привет! Что такая кислая? — открывая дверь, крикнул дядька.
Он поселился на их площадке год назад, и они частенько пересекались. Но не здоровались.
Иринка слыхала от мамы, что дядьку звали Павлом.
С дядькой Иринка не здоровалась. Он — тоже. Может, считал, что Иринка должна поздороваться первой? Не дождетесь!
Сегодня у Павла было отменное настроение. С отпуском всё получалось, по итогам месяца набежал приличный бонус, да и день обещал быть замечательным…