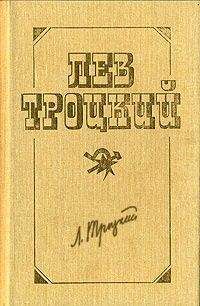Владимир Набоков - Набоков о Набокове. Рецензии. Эссэ
Эдмунд Уилсон считает себя (боюсь, не вполне чистосердечно и, конечно же, совершенно ошибочно) заурядным, неискушенным, нормальным читателем, имеющим обычный словарный запас, допустим, в шестьсот основных слов. Что и говорить, подобный воображаемый читатель будет порой озадачен и смущен заковыристыми словечками и понятиями, которые мне частенько приходится употреблять — очень даже частенько. Но как бы то ни было, сколько подобных простаков захотят ломать голову над ЕО? И что г-н Уилсон имеет в виду, намекая на то, что мне не следует пользоваться словами, которые, в процессе лексикографической эволюции, начинают встречаться только в «довольно полном словаре»? В какой все-таки момент словарь перестает быть сокращенным и становится сперва «довольно», а затем «чрезвычайно» полным? Какова последовательность: издание для жилетного кармана, для кармана пиджака, для кармана пальто, для моих трех книжных полок, для богатой библиотеки г-на Уилсона? И следует ли переводчику просто пренебречь всякими пояснительными примечаниями к какому-то понятию или предмету, если единственно правильное слово — слово, которое ему посчастливилось узнать как преподавателю, или натуралисту, или выдумщику неологизмов, — можно отыскать в пересмотренном и исправленном издании нормативного словаря, но не в его раннем издании, или vice versa?[19] Волнующие перспективы! Кошмарные сомнения! И как потерявший покой переводчик узнает, что где-то в процессе библиотечных поисков он нашел почти тот самый идеальный Довольно Полный словарь г-на Уилсона и теперь может благополучно употреблять слово «полиэдрический» и не употреблять слово «брусника». (Между прочим, в моем переводе процент слов, которые г-н Уилсон называет «встречающимися только в словарях», в сущности столь смехотворно мал, что мне было непросто найти таковые.)
Вряд ли г-н Уилсон не знает того, что, когда писатель решает омолодить или воскресить слово, оно снова оживает, снова всхлипывает, бродит в старинном камзоле по кладбищу и будет продолжать злить унылых могильщиков все то время, пока книгу этого писателя не перестанут читать. В некоторых случаях английские архаизмы использованы в моем переводе ЕО не просто для того, чтобы передать ими русские устаревшие слова, а чтобы воскресить оттенок смысла, присутствующий в обычном русском выражении, но потерянный в английском. Это не идиоматические выражения. Это фразы, в которых я решил стремиться к передаче буквального смысла, а не гладкости слога. Это ступеньки во льду, крюки, вбитые в отвесную скалу точности. Некоторые — просто сигнальные слова, призванные намекнуть или указать на то, что в этом месте повторилось определенное любимое выражение Пушкина. Другие выбраны из-за их галльского оттенка, скрытно присутствующего в той или иной русской попытке копировать французский оборот. Все они появились в результате терзаний, я отвергал их, восстанавливал в правах, и критикам, утверждающим, что они восторгаются некоторыми моими книгами, нужно относиться к ним как к выздоравливающим, как к осиротевшим отпрыскам старинного рода, а не улюлюкать, не освистывать, как самозванцев. Меня не заботит, какое это слово: «архаичное», или «диалектное», или «жаргонное»; в этом я эклектичный демократ и пускаю в дело всякое слово, которое мне подходит. Мой метод может быть плох, но это метод, и задачей подлинного критика должно быть рассмотрение самого метода, а не раздраженная ловля в моем пруду диковин, которыми я его сознательно населил.
Теперь позвольте мне обратиться к тому, что г-н Уилсон зовет моими «погрешностями против стиля» и «отклонениями от нормы», и объяснить ему, почему я употребляю слова, которые ему не нравятся или которых он не знает.
Говоря о том, что Онегина не прельщала семейная жизнь, Пушкин употребляет (глава четвертая, строфа XIII, строка 5) выражение «семейственной картиной». Современная форма этого выражения — «семейной картиной», и если бы Пушкин выбрал ее, я мог бы поставить «family picture». Но я должен был дать понять, что у Пушкина здесь стоит более редкое слово, и потому употребил тоже более редкое «familistic», как слово-сигнал.
Чтобы указать на архаический характер слова «воспомня» (которое Пушкин в главе первой, строфа XLVII, строки 6 и 7, употребляет вместо «вспомня», или «вспомнив», или «вспоминая»), а также передать звучность обеих строк («воспомня прежних лет романы, воспомня…» и так далее), я должен был подыскать нечто более раскатистое и зримое, нежели «recalling intrigues of past years», и так далее, и нравится это г-ну Уилсону (да, по правде говоря, и любому другому г-ну) или не нравится, более подходящего эквивалента для «воспомня», чем «rememorating», найти невозможно.[20]
Г-ну Уилсону не нравится также «curvate», вполне простое и в прямом смысле подходящее слово, которым я перевел пушкинское «кривые», потому что чувствовал, что «curved» или «crooked» — не лучший вариант для обозначения ровно изогнутых маникюрных ножниц Онегина.
Точно также не мимолетная прихоть, но долгие размышления заставили меня перевести «привычкой жизни избалован» (глава четвертая, строфа IX, строка 5) как «spoiled by a habitude of life». Мне нужно было передать галльский оттенок этой фразы, и я счел, что иносказательная неопределенность — пушкинская строка утонченно неоднозначна — будет предпочтительней «habit of life» или «life's habit». «Habitude» — то самое слово, какое здесь нужно. Знаменитый словарь Уэбстера не вешает на него ярлык «диалектное» или «вышедшее из употребления».
Другое прекрасно подходящее слово — «rummer», к которому я отношусь по-дружески из-за его тесной близости со словом «рюмка» и потому, что мне хотелось найти для слова «рюмок» (глава пятая, строфа XXIX, 4 строка) более широкое обозначение сосуда для вина, чем узкие, длинные бокалы для шампанского, которые тоже «рюмки» (строфа XXXII, строки 8–9). Если бы г-н Уилсон ознакомился с моими примечаниями, то увидел, что по зрелом размышлении я понизил в ранге еще не вышедшие из употребления, но довольно-таки вместительные «cups» (чарки из строфы XXIX) до «jiggers» — «стопок с водкой», которые опрокидывают перед первым блюдом.
Не могу понять, почему г-на Уилсона озадачило слово «dit» (глава пятая, строфа VIII, строка 13), которое я предпочел слову «ditty», аналогично «kit» вместо «kitty» в следующей строке, и которое теперь, надеюсь, войдет или вернется в обиход. Вероятно, необходимая мне в этом месте мужская рифма могла увести меня немного в сторону с рабской тропы буквализма (у Пушкина стоит просто «песня» — «song»). Но это не такая уж непостижимая вещь; в конце концов всякий, знающий, что такое, скажем, «titty» («в гвоздоделательной машине механизм, который передвигает полуготовый гвоздь»), без труда поймет и слово «tit» («механизм, который выбрасывает готовый гвоздь»).
Следующим в списке неприемлемых слов у г-на Уилсона стоит «gloam». Это поэтическое слово, еще Китс им пользовался. Оно превосходно передает русское «мгла» — опускающиеся вечерние тени («Вечерняя находит мгла»: глава четвертая, строфа XLVII, строка 8), как и мягкую тьму деревьев («И соловей во мгле древес»: глава третья, строфа XVI, строка и). Оно лучше, чем «murk», — диалектное слово, которое г-н Уилсон использует, с моего одобрения, при переводе слова «мгла» в другом месте — в описании зимнего рассвета.
В том же месте, которое мы с г-ном Уилсоном оба перевели, я употребляю «shippon» — слово, столь же известное любому, кто знаком с английской деревней, как, должно быть, «byre», употребленное г-ном Уилсоном, — фермеру в Новой Англии. Оба, и «shippon», и «byre», не известны тем, кто пользуется карманным словарем; оба можно найти в трехсантиметровой толщины «пингвиновском» словаре (издания 1965 года). Но я предпочитаю переводить «хлев» как «shippon», потому что вижу его так же ясно, как русский коровник, который он напоминает, но когда пытаюсь представить себе «byre», то вижу лишь вермонтский «barn».
Далее — «scrab»: «he scrabs the poor thing up» («бедняжку цап-царап»: глава первая, строфа XIV, строка 8). Это «цап-царап» — «междометная глагольная форма» — предполагает (как отмечает Пушкин, используя его в другой поэме) существование искусственного глагола «цап-царапать», шутливого и звукоподражательного — сочетающего «цапать» с «царапать». Я нашел для необычного пушкинского слова необычное «scrab up», сочетающее «grab» и «scratch», и горжусь этим. Это действительно замечательная находка.
Не стану анализировать выражение «in his lunes», которое г-н Уилсон для полноты картины присовокупил к перечню моих «прегрешений». Оно не из моего перевода, который он обсуждает, а из потока моей обычной удобочитаемой описательной прозы; о ней мы можем поговорить в другой раз.
Мы подошли к одному из главных обвиняемых: «mollitude». Чтобы передать пушкинский галлицизм «нега», мне нужен был английский эквивалент французского «mollesse»,[21] столь же привычный, как «mollesse» во фразах типа «il perdit ses jeunes années dans la mollesse et la volupté»[22] или «son œeur nage dans la mollesse».[23] Неверно будет сказать, как г-н Уилсон, что «mollitude» никогда не могло встретиться читателям. Читателям Браунинга оно встречалось. В этой связи г-н Уилсон интересуется: как бы я перевел выражение «чистых нег», встречающееся в одной из последних элегий Пушкина, — неужели как «pure mollitudes»? Так случилось, что тридцать лет назад я перевел это небольшое стихотворение, и когда г-н Уилсон найдет это мое переложение (в предисловии к одному из моих романов),[24] он заметит, что родительный падеж множественного числа от слова «нега» по смыслу чуточку отличается от единственного числа.