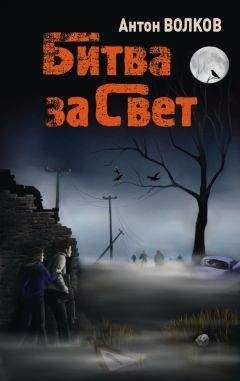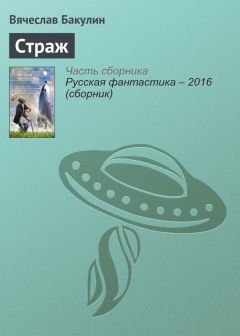Сергей Кремлев - Россия и Германия: Вместе или порознь? СССР Сталина и рейх Гитлера
Вопрос о быстром темпе развития индустрии не стоял бы так остро, если бы мы представляли не единственную страну диктатуры пролетариата, а одну из стран пролетарской диктатуры. При этом условии вопрос об экономической самостоятельности нашей страны, естественно, отошел бы на задний план, мы могли бы включиться в систему более развитых пролетарских государств, мы могли бы получать от них машины для оплодотворения нашей промышленности и сельского хозяйства, снабжая их сырьем и продовольственными продуктами. Но вы знаете, что мы не имеем этого условия. Вот почему вопрос о том, чтобы догнать и перегнать экономически передовые страны, Ленин ставил как вопрос жизни и смерти нашего развития.
Веймарская Германия не была страной пролетарской диктатуры, но наши экономические взаимоотношения все более напоминали ту схему, о которой говорил на пленуме Сталин. Только вместо готовых машин (а вернее — вместе с ними) мы получали от Германии все больше промышленного оборудования, которое позволило бы нам быстро производить собственные машины. США и Англия на такое идти зачастую не хотели, Франция — не могла по причине своей прогрессирующей отсталости.
Построить экономическую основу социализма мы могли лишь с помощью немцев. Но и наши рынки имели тогда для немцев первостепенное значение. Это обстоятельство было настолько очевидным, что укрепляло наши отношения лучше чем какие-то личности, и никакие личности в тот момент не могли советско-германским связям помешать всерьез и сорвать их. Вот почему Сталин не просто успокаивал больного Чичерина, а констатировал факт, когда 31 мая 1929 года писал ему:
«Все Ваши письма получаю, и большую часть из них рассылаю для сведения членам инстанции. Ввиду перегрузки в связи со всякими съездами я не мог до сих пор ответить Вам. Прошу извинения. Когда думаете вернуться в Москву на работу? Было бы хорошо вернуться немедля по окончании курса лечения в Висбадене. Что скажете на этот счет?
Я думаю, что несмотря на ряд бестактностей, допущенных нашими людьми в отношении немцев (бестактностей немцев по отношению к СССР имеется не меньше), дела с немцами у нас пойдут хорошо. Им до зарезу нужны большие промышленные заказы, между прочим для того, чтобы платить по репарациям. А они, т. е. заказы, на улице не валяются, причем известно, что мы могли бы им дать немаловажные заказы. Дела с немцами должны пойти.
С комм. приветом,
И. Сталин».СТАЛИН писал уважительно и надеясь на Чичерина, как на активный штык. Но тонкая, нервная натура Георгия Васильевича не выдерживала уже организованной травли, и его гонители своего добились: 21 июля 1930 года Чичерина освободили от должности наркома, а 22 июля наркомом был назначен-таки Литвинов. Советской внешней политике предстояла внешне блестящая, а на деле черная полоса. Предвидя это, Чичерин написал в начале июля огромную служебную записку, судя по ее тону и смыслу — своему преемнику, которым он явно видел Молотова. Узнав о победе литвиновской клики, Чичерин, несомненно, должен был нечто подобное направить Сталину и тому же Молотову, но по причинам неясным к этим адресатам ничего не попало. А был в этом документе Чичерин по-прощальному прозорлив и кое-что нам из его последних записей знать надо — чтобы будущие события представали перед нами не в искаженном, а в подлинном их значении.
Начал Чичерин с нелестных слов по адресу своего заместителя — Литвинова, и лестных — по адресу одного из давних советских дипломатов Карахана. С последним Чичерин был очень короток, но сам же как-то писал о нем: «красивая внешность и хорошие сигары». О члене Коллегии НКИДа Стомонякове сказано было так: «т. Стомоняков сухой формалист, без политического чутья, драчливый, неприятный, портящий отношения»… Портрет, надо сказать, типичный для троцкиста. Кстати, литвиновского любимца Юренева Чичерин прямо как троцкиста и определял.
Уже скоро Литвинов сделает печать средством вызвать вначале недоумение, потом раздражение, а еще потом и озлобление немцев против все более бездарной и высокомерной литвиновской внешней политики по отношению к Германии. С нашими корреспондентами в Берлине давно было неблагополучно, и Чичерин предупреждал:
«Полпред должен проверять посыпаемые в Москву телеграммы представителей ТАСС. Но т. Крестинский (в то время полпред в Берлине. — С. К.) упорно отлынивал: и работа лишняя, и ответственность. И берлинский корреспондент ТАСС, и слишком бойкая Кайт из „Известий“ постоянно вредят нашей политике; надо заставить Крестинского (который не хочет) контролировать их. А один из важнейших вопросов — контроль НКИД над прессой. Несколько раз я прямо спасал положение, когда какой-нибудь идиот из братской компартии проталкивал чудовищную нелепость. Например, Реммеле дал в „Правду“ статью о том, что по неопровержимым сведениям Германия получила право утроить численность рейхсвера и за это вступила в антисоветский фронт. Эта ребяческая ложь была страшно вредной, чистая провокация. Очевидно невежды из КПГ захотели этой дикой чепухой подкрепить обычное тельмановское лганье. Если бы я не задержал эту гадость, был бы величайший скандал».
Георгий Васильевич не случайно особо беспокоился о берлинских корреспондентах — именно там находились наиболее важные наши нити во внешний мир, и именно там их было легко рвать, но непросто связывать вновь. Литвинов как раз и собирался рвать — да и рвал, уже около двух лет фактически подменив Чичерина, который возмущался: «Самым вандальским актом было уничтожение берлинского бюро т. Михальского. Чьи-то мне неизвестные, закулисные интриги к этому привели. Постоянными врагами бюро были тт. Литвинов и Крестинский, а врагом т. Михальского — Уншлихт».
Бюро Михальского вполне легально собирало различную политико-экономическую информацию прямо в гуще событий, обрабатывая литературу, налаживая личные контакты во всех кругах. Оно было, по словам Чичерина, образцовым. Но Литвинову, его будущему заму Крестинскому, Уншлихту точная информация о Германии не требовалась — им были нужны тенденциозные антигерманские материалы, а с этим отлично справлялась «бойкая» журналистка Кайт. И не из-за лени Крестинский увиливал от контроля за печатью. Смысл тут был иной: видимость отстраненности НКИДа позволяла московским газетчикам действовать в Берлине более свободно и независимо, то есть провокационно. А полпредство только разводило перед немцами руками: мол, свобода печати…
Чичерин считал, что «нарком иностранных дел должен быть всегда на месте» и напоминал, что «80-летнего Горчакова будили ночью из-за спешной телеграммы, а 75-летний Лобанов среди ночи спускался в канцелярию, чтобы отослать спешную телеграмму, посмотреть, что получено». При Чичерине так и было, а Литвинов ввел чисто канцелярский стиль: приходил ровно в девять и уходил ровно в шесть.
Еще одна боль была у уходящего Чичерина — Коминтерн. Чичерин писал:
«Из наших, по известному шутливому выражению, „внутренних врагов“ первый — Коминтерн. До 1929 года неприятностей с ним хоть и было много, но удавалось положение улаживать. С 1929 года положение стало совершенно невыносимым, это смерть внешней политики. Макс Гельц получил Красное Знамя за преступление против дружественного германского правительства (Гельца наградили по приказу Реввоенсовета СССР № 578. — С. К). В 1928 году был поставлен вопрос об удалении иностранных коммунистов из наших полпредств, торгпредств, разных экономических учреждений, банков и представительств ТАСС. В Берлине весь актив партии сидел в наших учреждениях; это была форма финансирования партии. Ужасное безобразие — наше радиовещание. Когда во время германских стачек мощная радиостанция Исполкома Коминтерна в Москве по-немецки призывает стачечников к борьбе, или когда она призывает немецких солдат к неповиновению, это нечто недопустимое. Никакие международные отношения при таких условиях невозможны».
Чичерин рассуждал здесь как настоящий русский советский патриот: внешние связи СССР должны укреплять не компартии за рубежом, а позиции СССР. Но Литвинова и тех, кто стоял за ним, вполне устраивали такие условия в Германии, при которых была невозможна нормальная наша политика в Германии же. Коминтерн в Германии и был хорошим инструментом для организации разлада межгосударственных отношений.
26 ИЮЛЯ 1930 года Максим Максимович, демократически расположившись на крылечке НКИДовского особняка на Спиридоновке, давал иностранным корреспондентам первое интервью в ранге наркома.
Его сразу же спросили:
— Господин Литвинов, не приведет ли новое назначение к изменениям во внешней политике?