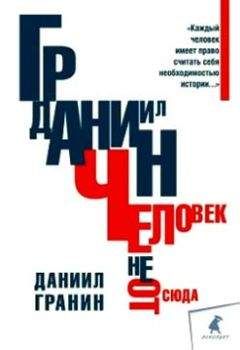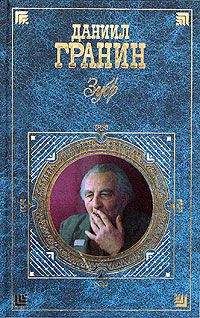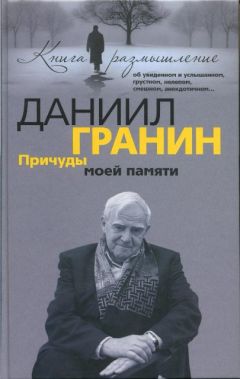Даниил Гранин - Милосердие
Зачем же оно нужно, искусство, в этом бурном техническом процессе? Не отвлекает ли оно, не излишество ли оно, не дань ли оно сентиментальным пережиткам прошлого? И так ли уж оно необходимо, современное искусство, не проще ли пользоваться накопленным богатством и оставить его только для развлечения и отдыха? Когда Пушкин писал: «И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит», — думается, он высказал чрезвычайно глубокую мысль о том, что прошлая поэзия будет существовать до тех пор, пока будет существовать живая, современная поэзия.
Искусство, тот же театр, где нас по-прежнему волнуют Софокл и Островский, та же неизменная литература, нужны человеку для того, чтобы осознать себя, свою личность, свой внутренний мир, нужны для понимания других людей, для преодоления своей ограниченности. Человеку надо становиться все более человеком. Новые силы и новые знания требуют человечности. Человечность не обретается массово, она добывается индивидуально. В дискуссии, проведенной журналом «Вопросы философии», Д. С. Данин заметил, что вместе с проблемой охраны внешней среды возникает проблема охраны внутреннего мира человека. Так же как в первом случае неоценима роль науки, так во втором случае неоценима роль искусства.
НТР увеличивает меру материального довольства, искусство увеличивает меру внутренних потребностей человека. Литература, очевидно, должна не расцвечивать НТР, не преклоняться перед ней, а помочь осознать ее лишь как средство, показать пределы ее, ее опасности, дополнить ее.
НТР может создавать человека ограниченного, самодовольного, уверенного, что знания заменяют культуру, что многообразие мира — лишь предмет для научных исследований. Возьмем, допустим, музейный взрыв, который произошел за последние годы. В Ленинграде в Эрмитаж с каждым годом приходит все больше людей. Стоит неубывающая очередь. Однако стоит понаблюдать, как смотрят картины, как происходит потребление искусства. Довольно часто действует схема приобретения знаний: обойти, увидеть столько-то залов, побывать там-то и там-то. Искусство не успевают прочувствовать, пережить. Человек прочитает книгу, которая вроде бы должна взволновать, заставить задуматься о жизни, однако, захлопнув ее, он спешит к телевизору, где его ждет новая постановка, оттуда — в кино, затем он садится в машину, чтобы мчаться на футбол… Он не успевает ничего освоить. Прочитанная книга, даже хорошая, остается в его сознании как информация, она не перерабатывается душевным, умственным организмом в его убеждения, в сомнения и чувства. Она обогащает ум, а не душу, не эмоциональный мир.
Один мой знакомый, довольно крупный ученый, считает, как и многие другие, что ученому весьма полезно потреблять искусство. В этом его убеждают и многие наши литературоведы и исследователи, которые с гордостью отмечают, как помогала Эйнштейну игра на скрипке или чтение Достоевского, сводя эту полезность примерно в разряд рекомендаций бегать по утрам по системе Купера, есть рыбу и употреблять поливитамины. Но в данном случае заставляет задуматься не этот утилитарный, примитивный подход. Мне было интересно, откуда он происходит. Может быть, от веры этого человека в могущество научного подхода к любым явлениям жизни. Он считает, что все можно вычислить, что нет неразрешимых противоречий и непонятных явлений. Ему все ясно или все может быть выяснено. Он считает, что рано или поздно все явления искусства можно будет проанализировать, взвесить, разложить, оценить величину любого таланта. Для него книга или фильм ценны своей информацией. Много информации — хорошая книга, мало — плохая, все очень просто. Он ставит меня в тупик тем, что он живо интересуется всем, что он не узкий специалист, в нем нет ограниченности, односторонности, он преуспевает как ученый, и, самое печальное, я чувствую, что в нем эти взгляды укрепляются не только потому, что они удобны, но и потому, что среди окружающих людей циркулируют те же идеи. Я не знаю, придет ли он когда-нибудь к тому горькому выводу, к которому пришел Дарвин в конце жизни, почувствовав свой уход от искусства как утрату эстетического вкуса. Дарвин писал, что это было равносильно утрате счастья и вредно отражалось на нравственных качествах, так как ослабляло эмоциональную сторону человеческой природы…
В процессе НТР человек в какой-то мере становится функциональным. В идеале для механизированного производства человек — функция; наилучший «человек» — это все же машина. Современное производство требует машины управляющей, принимающей решения. Работающий человек в ряде современных предприятий оценивается как бы своей «машинностью». Чем больше в нем машинности, то есть чем меньше эмоций, которые понижают эффективность системы, чем меньше возможности отвлекаться, тем он лучше как работник. Он хорош, когда нет у него ни переживаний, ни мечтаний, когда в нем минимум индивидуальных процессов. Такой работник для любого капиталистического предприятия самый выгодный. Мы же считаем, что подобная функциональность обедняет и перекашивает человека. Литература отстаивает личную цельность, сохраняет внутренний мир человека, мешает его эрозии. Вот почему так горячо воспринимаются сегодня книги, где главное не производство, а нравственные проблемы, где велико внимание к душевной жизни человека. Они иногда стоят как бы в стороне от главных проблем той же НТР. Там и герои отнюдь не инженеры и не ученые. Возьмите повести Айтматова, Белова, Распутина. В них исследуются нравственные ценности, они заставляют задуматься над тем, что из жизни уходит тот нравственный мир человека, который определял этику народной жизни 30-х или, допустим, 40-х годов, с его понятием красоты, доброты, любви. Не случайно Сергей Залыгин назвал подобную литературу в какой-то мере «литературой прощания». Путь к прошлому поучителен, хотя он легче и короче, чем к современности. Читая эти книги, невольно спрашиваешь себя: а что же, человек становится лучше или хуже? И хочется сравнивать человека 30-х годов и нынешнего, что он приобрел и чего он лишился, его отношение к труду; вероятно, заинтересованность в результатах труда была больше, и, может быть, отношение к труду было более честное…
Но всегда ли плодотворно такое сравнение? Одно дело, когда «Белый пароход» Айтматова вызывает гнев, сострадание и, главное, жажду действия, и другое дело, когда авторы заняты лишь печалью о прошлом. Что нам дает этот список потерь и приобретений? Ведь нет возврата даже к тому человеку, который начинал с великим энтузиазмом строительство первых пятилеток. Мы отдаем ему должное, чтим его и даже восхищаемся им, но нынешние строители общества живут в других условиях и другие обстоятельства определяют их подвиги и их характеры, другие требования предъявляет к ним жизнь.
Стоит сравнить хотя бы такую простую вещь, как количество людей, с которыми мы знакомы, — с тем количеством людей, которые окружали наших родителей, — их больше в пять, в десять раз. Но при этом мы испытываем дефицит дружбы. Общение стало более поверхностным. Зато наши родители испытывали дефицит новизны, дефицит общения.
В «литературе прощания» преобладает созерцательность. Ей не всегда хватает социальной активности, особенно для человека, который хочет что-то сделать, бороться, соучаствовать, творить. Эта литература вызывает сожаление о прошлом, вероятно, благотворное, законное, но не всегда способное побудить к действию. Думается, что художественная мысль лишь тогда совпадает с народной мыслью, когда она ведет вперед, а не назад, сливается с усилиями и трудом народа, его устремлениями. Такое положение приобретает особое значение для литературы о нравственном формировании человека. Некоторые критики стали преподносить нравственность как понятие неизменное, прежде всего крестьянское, делать старую русскую деревню источником духовных добродетелей. Оттуда, мол, все пошло и там все хранится. Истинно народное — значит деревенское. Деревня — это хорошо, а вот город — это плохо, город чуть ли не исчадие зла и пороков. Эти крайности антиисторичны.
А где же при всем при том рабочий класс? Тот класс, который делал революцию? В крови и беспощадности гражданской войны рождалась пролетарская, народная мечта о царстве свободы. Некогда казавшиеся утопическими идеалы социализма стали явью, и лучшие сыны революции шли в бой, чтобы разрушить мир насилия, чтобы «кто был ничем, тот станет всем». Вместе с трудовым крестьянством они сражались, чтоб «землю в Гренаде крестьянам отдать». Впервые в людской истории они воплощали идеи интернационализма, приносили в жертву все ради счастья угнетенных. Под предводительством рабочего класса возникала новая нравственность, отвергая мир эгоизма, корысти, невежества, идиотизма деревенской жизни, где калечились лучшие чувства, уродовалась любовь, где бедность была позором, религия — ханжеством. Пролетариат отстоял то лучшее, что цинично использовалось в народном характере церковью, властью. Новая нравственность нашего общества росла, укреплялась под руководством рабочего класса, строителя индустрии, делателя технического прогресса. Как же можно противопоставлять сегодня деревню городу, выдавать идиллических деревенских старух за главных хранителей добра, честности? Да и человек в деревне стал иной. Он унаследовал нравственность рабочего класса.