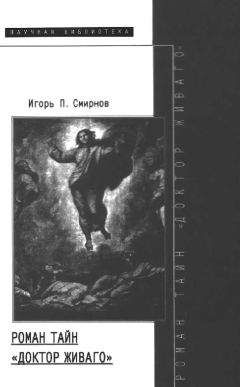Иван Толстой - Отмытый роман Пастернака: «Доктор Живаго» между КГБ и ЦРУ
Через год, в сентябре 1957, Ахматова скажет:
«Передают два крылатых изречения Зинаиды Николаевны. Одно: „Брошенной женой Пастернака я не буду. Я буду только его вдовой“. Другое: „Бориса Леонидовича больше нет. Существует одна только Ольга Всеволодовна“. Боюсь, тут Зина права. Эта баба его слопала. Проглотила живьем» (там же, с. 261).
Долгие годы Ольгой Ивинской был увлечен писатель Варлам Шаламов, познакомившийся с ней в начале 1930-х в журнале «ЗОТ» («За овладение техникой»), где он был редактором, а она – по всей видимости, стажером. Потом двадцать два года Шаламов протрубил на Колыме, а в марте 1956-го, сразу после ХХ съезда, написал Ивинской первое за все эти годы письмо и попросил разрешения показать стихи. Завязалась переписка, Шаламов время от времени наведывался в Москву из Калининской области, где, лишенный права жить в больших городах, трудился в поселке Туркмен снабженцем на торфяных разработках. Слабая надежда на соединение судеб быстро у него улетучилась, сменившись дружбой, продолжавшейся три месяца. После чего Шаламов резко оборвал отношения. Что тому было причиной? Тяжелый характер, как объясняет дочь Ивинской Ирина Емельянова?
«По недоразумению ли, по логике ли „сюжета“ – Варлам Тихонович ушел из нашей жизни. И уже не мы, а другие люди, другая женщина, помогли ему и вернуться в Москву, и обрести дом, и начать путь к читателю (...) Последние двадцать лет его жизни мы почти не виделись. Доходили слухи о его утяжелявшейся болезни, невыносимом характере, вспышках бешенства, растущей нетерпимости. Он стал резко судить и Б. Л. Не только к роману „Доктор Живаго“, к которому он всегда относился скрыто неприязненно, предъявлял он несправедливый счет, но и к позиции самого Б. Л. в нобелевские дни – что не стал тот монолитом неуязвимости, не сумел навязать событиям свою волю – пресловутые „покаянные“ письма. Он не написал нам в лагерь, не интересовался нашей судьбой» (Емельянова, с. 336—337).
По Емельяновой, мрачный мир Шаламова поглотил в результате и его сознание.
Пастернака Варлам Тихонович превозносил давно и видел в нем родственную душу. Но затем все переменилось.
Сам Шаламов напрямую разрыв с Ивинской не объяснял, но в письмах к Надежде Мандельштам (1965) он писал об отходе от Пастернака – именно в связи с Ивинской:
«Когда-то Пастернак просто ошеломил меня, когда вдруг оказалось, что такое хорошее и согласное вдруг обернулось малодушием, трусостью, недостаточностью не только поэта... Вдруг все было передано в руки какой-то (...) Ивинской (при ее личном праве и правоте). Это одна из больных моих нравственных травм, потому что мне не повезло при встрече с Пастернаком, а Пастернаку при встрече со мной, только он этого не понял, опять-таки по малодушию, по суетности своей. Этот вопрос до такой степени для меня важен и болезнен. Наше знакомство прервалось при обстоятельствах, не делающих чести Пастернаку. Его звонки на Хорошевское шоссе ничего не могли изменить. Пастернак предлагал мне повидаться у Ивинской. Я отказывался это сделать. Я не разделял и не одобрял его „опрощения“, не считал, что проза „Доктора Живаго“ – лучшая его проза.
В собственной семье Пастернак был в плену, и я когда-нибудь напишу об этом. (...) Я не виню Ивинскую. Пастернак был ее ставкой, и она ставку использовала, как могла. (...) Но то, что было естественно для Ивинской, было оскорбительно для Пастернака, если он хотел считаться поэтом, желая все сохранить: и вкусные обеды Зинаиды Николаевны, и расположение Ивинской, не понимая, что этот физиологический феномен давно отнесен Мечниковым в «Этюдах о природе человека» к одной из закономерностей для людей искусства» (Шаламов, с. 166).
Шаламов, вероятно, имеет здесь в виду следующий мечниковский пассаж: «Чувственная любовь служит часто большим стимулом к высшему творчеству у поэтов и художников. Кому не известны примеры великих писателей, как Гете, Байрон, Виктор Гюго и многое множество других, менее крупных, в жизни которых чувственность сыграла огромную роль» (Мечников, с. XXIII).
«Для Ивинской, – продолжает Шаламов письмо Надежде Мандельштам, – написаны, говорят, хорошие стихи, говорят так люди, не понимающие природы творчества. Стихи все равно были бы написаны, даже если бы Ивинская и Зинаида Николаевна поменялись бы местами. Вот это и есть Переделкино в Борисово, о котором я еще напишу» (Шаламов, с. 167).
Надежда Мандельштам, кстати, принадлежала к числу защитников Ивинской. Что понятно: Пастернак домашний, семейный, Зинаидин был для нее Пастернаком советским, с талоном на место у колонн, прописанным в официальной жизни.
Намеки Шаламова, возможно, требуют некоторого пояснения. Он говорит здесь о том, что если для Ивинской простительно «пользование» Пастернаком в своих целях – вхождения в общество, закрепления своего социального статуса, прекращения косых взглядов («какая-то машинистка»), – то для Бориса Леонидовича, при живой жене, негоже так «удобно» устраиваться: в одном лице получить и наложницу, и безотказного секретаря, и литфондовскую дачу не потерять, и принимать друзей с Зинаидой Николаевной на званых обедах. Такая «сытость», на взгляд Шаламова, была постыдна для звания русского поэта.
Отношение к своему роману у Пастернака было во многом схоже с отношением к Ольге Ивинской. Как только ни предостерегали его от общения с нею, чего только ни выслушал он в ее адрес, но всё либо преодолел, либо вытеснил из сознания – и остался с нею. Такую же верность он проявил и к роману: как только его ни ругали, какой провал ни сулили, какие кары за публикацию на Западе ни пророчили, Пастернак гнул свою линию, слушая только хвалящих и отворачиваясь от хулителей. Исайя Берлин не понял, в какого рода подмоге нуждался Борис Леонидович, и получил от него отповедь.
Небожитель был стратегом.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
«Спасибо Вам за Доктора Живаго»
...насколько важна была для Пастернака быстрейшая публикация «Доктора Живаго», главным образом его русского текста. Он считал это своим святым долгом; чтобы выполнить его, он готов был на любые жертвы – кроме изгнания из родной страны.
Жаклин де ПруайярВ ноябре 1956 года в Москву из Парижа приехала молодая французская славистка Жаклин де Пруайяр. Ни она, ни Борис Пастернак не могли предположить, что их встреча в Переделкино станет для русского издания «Доктора Живаго» судьбоносной.
Действующие лица: Жаклин де Пруайяр
Жаклин де Пруайяр родилась 30 мая 1927 года в Париже в доме своей матери графини де Монтебелло. Материнский дядя Леон Сэ был в свое время председателем Сената Третьей республики. Отец матери, граф Гюстав де Монтебелло, один из создателей Франко-русского союза, служил послом в России с 1891 по 1902 год и, в частности, готовил приезд в Париж Александра Третьего, а в ответ – визит французского флота в Петербург. Русский дух семье был далеко не чужд.
По отцовской линии Жаклин происходит из дворянского рода де ла Шеврельер. Ее дед закончил военную школу Сен-Сир, увлекался новыми тогда радиосигналами, был знаком с Маркони. После гибели «Титаника» он организовывал радиосвязь на французском и британском флотах, а с Россией подписал контракт на поставку радиоаппаратуры для авиации.
Отец Жаклин, помимо нефтяного бизнеса, также занимался вопросами радио – но в юридической плоскости: он был представителем Франции в Международном комитете по распределению радиочастот.
«Я, – вспоминает она, – повернулась к России довольно поздно. Сначала я готовила себя к классическому факультету. Но отец, успев съездить в Москву перед самым падением железного занавеса (там в 1946 году проходила конференция по радиочастотам), написал мне в Италию: „Бросай итальянский, учи русский“. Я уже к тому времени прочитала „Войну и мир“, это был мой первый контакт с духовностью России. Я пошла в Школу Восточных языков, училась у профессора Пьера Паскаля и защитила диплом по „Московскому сборнику“ Победоносцева» (Жаклин).
Здесь Жаклин познакомилась со своим будущим мужем адвокатом Даниэлем де Пруайяром. После Школы Восточных языков она отправилась на два года в Гарвардский университет, занималась в аспирантуре у Романа Якобсона.
«В Америке, не как здесь (во Франции – Ив. Т.), отношения с профессорами очень дружеские, и Якобсон узнал, по разговорам, что я верующая и принадлежу к окружению отца Жана Даниэлу, будущего кардинала. Якобсона интересовало, возможно ли различить древнейший слой старших богатырей и новейший слой богатырей христианских (Илья Муромец, Добрыня Никитич). И получилась интересная маленькая диссертация «Христианские мотивы в былинах русского цикла». Роман Осипович занимался тогда с Клодом Леви-Строссом первыми мифами человечества. Но диссертация эта совсем не была принята здесь, потому что это была еще позитивистская Франция, где нельзя было изучать произведение под религиозным углом. В этом смысле это было (да-да!), как в Советском Союзе. В Америке можно было делать все, что угодно. Но сейчас и во Франции многое меняется. В Гарварде я получила PhD (степень доктора философии), и ни один мой французский коллега в те годы не знал, что это такое» (Жаклин).